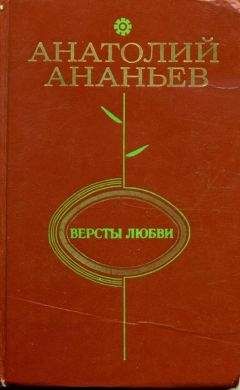«Да ты все знаешь! Прямо-таки агроном! Хочешь быть агрономом?»
«Нет».
«Почему?»
«Не знаю».
«А кем ты хочешь быть?»
«Не знаю, — снова отвечала она. — У вас два зернышка упали!» — восклицала она и тут же лезла под стол искать эти упавшие зерна.
Иногда она вдруг прерывала разговор словами: «А мама сегодня вареники с картошкой и луком обещала», — и в голосе ее при этом было столько откровенной детской радости, столько счастья, что оно, казалось, переливалось через край, и бывал ли я голоден или сыт, но этот ее маленький детский мир счастья как бы проникал и в меня, и я тоже незаметно для самого себя начинал жить предвкушением чудесного ужина, когда Пелагея Карповна, поставив на стол дымящиеся вареники, скажет свое обычное: «С подсолнечным? Или со сметаной?..» Я ведь и теперь, может быть в память тех долгушинских пиршеств, временами прошу жену сделать на обед вареники с картошкой и непременно с луком, чтобы — по-деревенски, но никакой радости, разумеется, не вспыхивает на лице Наташи (я не знаю, в каком свете ей вспоминаются те детские дни), а, напротив, даже будто недовольно она говорит: «Ты серьезно? Ну хорошо, сделаю». Когда же все бывает готово, стоит на столе и мы всем семейством сидим вокруг, — сквозь тот самый пар, исходящий от вареников, как сквозь дымку, я вижу то ее счастливое выражение и, знаете... Но — я опять забежал вперед? Я люблю Долгушино; но не только за эту видимую радость, какую испытывал, день за днем как бы втягиваясь в ритм приглушенной деревенской жизни, и не только за те изумительные закаты, которыми можно восхищаться, лишь будучи в поле, когда вся даль до горизонта перед тобою словно вот, на ладони, и по сжатому клину, по колкой, торчащей, как ежик, стерне, как от зеркальца к зеркальцу, от золотистого стебелька к стебельку бегут к ногам, слабея и растворяясь, багрово-красные, выплеснутые где-то на самом гребне взгорья краски приближающейся ночи, или рассветы, прохладные осенние утра, когда над током еще будто стоит сухой хлебный дух минувшего знойного полдня, но уже холодными сырыми струями течет с низин над оголенной черной землей предвещающий ранние заморозки воздух, и все: брезенты на бунтах зерна, отвеянный ворох мякины, черенки лопат, ведра, капоты и стекла ночевавших машин, и та самая золотившаяся с вечера стерня — все как бы отпотевает, покрывается капельками росы, и тогда лучше не сворачивай с тропинки, потому что ноги сейчас же будут мокрыми и придется снимать ботинки под насмешливыми взглядами принявшихся уже перелопачивать зерно женщин и затем сушить носки (как это было со мной), — нет, не только за это, что можно вот так разом обозреть, но, главное, за тот постоянный душевный настрой, за мысли и чувства, наконец, за то беспокойство, не за себя, а за общее дело, какое постоянно рождалось и жило во мне, поднимало чуть свет с постели и уводило в поле. Сперва это были, как я бы назвал их теперь, должностные заботы. Я ездил в МТС и затем договаривался с бригадиром Кузьмой, чтобы вовремя, пока еще не начал осыпаться хлеб, прислали на делянки комбайн, и объяснял, хотя все и без меня давно знали («Ваши делянки вот где у нас, на шее», — говорили мне в МТС; те же слова повторял и Кузьма Степанович), как важно не потерять ни одного зернышка, потому что только тогда можно определить, какой сорт лучше растет и дает большие урожаи на здешних землях; потом надо было следить, чтобы каждая делянка убиралась отдельно, отдельно взвешивалось зерно и складывалась солома, и это отнимало уйму времени, так что в самый разгар страды я даже ночью не уезжал с тока, а когда все было сжато, провеяно и свезено, явились новые хлопоты — вспашка под зябь, разбивка делянок и сев озимых, и опять надо было, уже по дождю, по слякоти мчаться в МТС, а затем к бригадиру, Кузьме Степановичу, кланяться ему в ноги и просить трактор с плугом и прицепную сеялку. И в довершение ко всему — однажды в полдень (первой увидела его Пелагея Карповна; она сказала, разогнув спину: «Вона, комиссия жалует!») на телеге, которую привычно тащил все тот же неизменный серый мерин, приехал Федор Федорович; но на этот раз он не стал проверять глубину заделки семян; когда я подошел к нему, чтобы поздороваться и доложить, что сделано и что еще предстоит сделать, он, весело кивнув в сторону телеги, сказал: «Ну, принимай!» — и сам первым взялся за углы наполненного под завязку зерном мешка. Это был тот самый вечный сорт пшеницы, над выведением которого работал Федор Федорович. Признаться, к тому времени, занятый своими хлопотами, я как-то забыл об этом некогда поразившем меня, смело задуманном эксперименте, да и Федор Федорович все эти месяцы молчал, и вот, вдруг — я стою возле развязанного мешка и перебираю зачерпнутые в ладонь тощие, словно пересушенные красновато-коричневые зерна.
«Н-ну?»
«Это же здорово!»
«Посмотрим, посмотрим...»
«Просто не хватает слов сказать, как это здорово!»
Такой ли или, может быть, другой, лишь похожий на этот, состоялся тогда у меня с Федором Федоровичем разговор, я поздравлял и восторгался, видя, что; это нравилось ему, хотя восторгаться, собственно, было еще преждевременно и нечему; чтоб вы уж знали — только всходы и появились хорошими, и делянка с вечным сортом пшеницы ушла под снег, в зиму, радуя своею буйною зеленью, но весной словно кто заколдовал ее: так и не пошла пшеница в стрелку, и я разочарованно смотрел на заросшую будто травою полосу, и Федор Федорович тоже был разочарован и расстроен, хотя и говорил: «Ничего, не все сразу, начнем сначала. Начнем и завершим!» И он действительно, по-моему, начал потом все заново, но только точно сказать не могу, потому что к тому времени я уже уехал из Долгушина; а с осени, что ж, повторяю, все было торжественно, и Федор Федорович сам встал за сеялку, когда трактор первым заходом пошел по жирной, черной, отбитой межою от других делянке, а потом пригласил Андрея Николаевича посмотреть на свое детище, когда закустились зеленя, и мы около часа втроем ходили вокруг, присаживаясь на корточки и разглядывая узкие и острые, словно собранные в пучки листочки, и снова похвалы, теперь уже от заведующего райзо, сыпались на Федора Федоровича. А вечером в доме заведующего сортоиспытательным участком шумело застолье, на которое были приглашены и председатель Чигиревского колхоза Илья Ющин, и парторг Подъяченков, и даже долгушинский бригадир Кузьма Степанович, и я чувствовал себя, помню, именинником, как и Федор Федорович, так как на моем же участке, на Долгушинских взгорьях, испытывался этот суливший всем, даже колхозу, славу сорт пшеницы. Вы улыбаетесь? Я тоже. Но вместе с тем думаю, что ничего осудительного в том стремлении и в тех чувствах не было; они и сейчас мне кажутся неотъемлемыми и необходимыми, как воздух; я не только восхищался Федором Федоровичем, но искал, что бы мог сделать сам — не в будущем, нет, а теперь! — и этим «что бы» явилась карта севооборота Долгушинских взгорий, которая показалась, когда стал смотреть ее, устаревшей, да и неверной, и я решил составить новую.
Когда я сказал об этом Федору Федоровичу, он, однако, лишь заметил:
«Хлопотное дело».
«Но...»
«Попробуй, а чего же, может, и выйдет. Оно ведь и в Чигиреве надо бы давно пересмотреть карту севооборота».
«Потом и в Чигиреве».
«Дай бог, но чтобы... основное наше дело не пострадало при этом, понял?»
«Понял, Федор Федорович».
Я разговаривал затем и с Андреем Николаевичем, и с председателем колхоза Ильей Ющиным, и с парторгом Подъяченковым. Заведующий райзо, как это было — теперь-то могу судить! — привычно и свойственно ему преувеличивать все, восторженно воскликнул: «Великое дело начинаешь, Алексей, нужное для района!» — и по-отцовски ласково, как он умел (или просто это так казалось тогда?), положил широкую и мягкую ладонь на мое плечо. Ющин же, помню, долго расхаживал по своему председательскому кабинету, прицыкивая языком и обдумывая, что принесет это колхозу, какую выгоду и сколько излишних забот («Шутка сказать, — как бы сам с собою то и дело рассуждал он, — нарезай заново все поля!»), и, может быть, не дал бы согласия, если бы не парторг Подъяченков, которому, вероятно, было просто жалко меня и который сказал: «Так ведь все сперва будет на бумаге! Приглянется, увидим пользу, примем, не увидим — не примем. Пусть начинает, чего перечить», — и велел выдать старые карты колхозных земельных угодий (пока, разумеется, только Долгушинских взгорий). В тот же день я съездил в Красную До́линку, купил кирзовые сапоги и брезентовый плащ с капюшоном, тот самый, что теперь так памятен мне, и, вернувшись в Долгушино, наутро — это было воскресенье, — едва занялась заря, отправился в поле. Вместе со мной пошел тогда и бригадир Кузьма Степанович. Вообще, первые полторы-две недели он помогал охотно, даже давал своего коня, когда нужно было побывать на самом отдаленном участке, но затем отношение его и ко мне и к делу вдруг изменилось, он насмешливо щурил глаза и говорил: «Сапоги не казенны, попусту грязь месить, все одно ничего не выйдет», — и конь оказывался теперь то неподкованным, то мокрец выступал, и оттого опять же нельзя было седлать коня, и я уже не обращался с просьбой, а ходил по взгорьям пешком и возвращался домой усталым, продрогшим, но довольным. Изменившемуся отношению Кузьмы Степановича я не придавал тогда еще значения, хотя и было неприятно это. «Да что он понимает? — про себя размышлял я, не желая думать о нем ничего дурного. — По старинке, привычно, как деды завещали? А если все-таки выйдет, тогда что?» Я даже оправдывал его, считая, что и сам на его месте поступил бы, может быть, не лучше, но не так наивен и прост был Кузьма Степанович, как я рисовал его в своем воображении, а главное, не так прост был его отец, Степан Моштаков, этот бородатый и еще не сгорбленный старец, что, по словам Федора Федоровича, верховодил всем в деревне. Он наставлял сына: «Чево это ты позволяшь мальцу по твоим пашням рыскать, гляди, натычет палок в колеса, тогда-ть поздно будет. Подсекай, бросай под ноги ямы, ан их перейти-ть надо, полазит-полазит, да и притихнет. Гляди, Кузьма, кабы поздно не было!» — и наговоры эти настораживали бригадира; это была, в сущности, первая струйка той холодной, остужающей волны, которая затем хлестнет из-под моштаковской подворотни, было первое столкновение, заочное, что ли, и даже не столкновение, потому что я хотя и видел старика, и сразу признал в нем тестя Андрея Николаевича (разумеется, вспомнил при этом о мешке с мукой на остекленной веранде), но только поздоровался и ни о чем не разговаривал, и потому, конечно же, не столкновение, а просто односторонняя, будто беспричинно, так, на всякий случай, возникавшая у старого Моштакова неприязнь ко мне, и он уже давал ход этой своей неприязни. Но я не знал ничего, равнодушие бригадира Кузьмы оборачивалось во мне лишь еще большим желанием делать, добиваться; и до самой поздней осени, уже по утрам дорога схватывалась синими ледяными корками, а на взгорьях царствовал ветер, захлестывая стынущие поля дождем и мокрым снегом, я все еще целыми днями бродил по взгорьям, изучая долгушинские земли и прикидывая в мыслях будущие клинья севооборота.