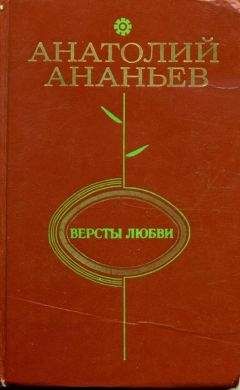Иногда я спрашиваю себя, что поднимает солдат в атаку, какая сила заставляет бойцов преодолевать то расстояние между своими и вражескими окопами, где на каждом метре подстерегает их смерть? Я не был на фронте, как вы, и потому не могу сказать, что это за сила, но уверен, что она есть и что ее нельзя вместить в какое-либо одно, пусть даже самое возвышенное и емкое понятие — долга ли, чести ли; сила эта живет постоянно и властвует над людьми, проявляясь в иные времена, как, например, в военные годы, более отчетливо, в иные, как теперь, в мирных буднях, менее отчетливо, но она, знаю, есть, единая, замечательная и неодолимая, заложена в каждом из нас, как часть общего движения людей к добру и счастью, иначе чем бы я мог объяснить теперь ту свою долгушинскую, так назовем ее, устремленность, то старание, с каким составлял лично мне, собственно, ненужную карту севооборота? Работа эта не входила в мои обязанности, я не получал за нее ничего, кроме разве недовольных взглядов и даже как будто упреков со стороны Федора Федоровича, который при встречах непременно говорил: «Дались же вам севообороты!» Но я лишь улыбался на эти его слова, потому что мне приятно было их слышать. «Да, дались», — про себя повторял я, мысленно представляя, какую пользу принесет колхозу новая разбивка полей, и заранее радуясь своему будущему успеху. По утрам, когда выходил из дому, от стола ли, от печи ли, Пелагея Карповна со скрещенными на груди руками, или с полотенцем, или ухватом в руке (часто рядом с нею стояла Наташа, обнимая мать или выглядывая из-за нее, и тогда они вместе смотрели на мою слегка сгорбленную в брезентовом плаще спину), вдруг произносила: «Чего это вы так мучаете себя, хоть бы денек дома посидели», — и я на секунду останавливался у порога, чтобы дослушать, и опять улыбался, потому что я-то знал, что не мучаюсь, выходя по дождю и ветру в поле, а, напротив, горжусь тем, что у меня есть такая возможность делать это, делать ради них же, Пелагеи Карповны и Наташи, хотя кто они мне? — просто добрые знакомые, у которых живу, делать ради всех, потому что все — люди, и хотят так же, как и я, достатка и счастья. Может быть, именно за эти теплые чувства больше всего я и люблю Долгушино? Я ведь не просто сейчас рассказываю, а как будто снова иду по узкой, с примятою дождем, блеклой травою меже, подымаясь на взгорья, а внизу, заветренное, с потоками капель по стенам и крышам, с опустевшими. черными огородами и мокрыми все от того же дождя жердевыми оградами, с черной наезженной колеею посередине улицы — вся открытая взгляду деревня; я смотрю на нее издали, и за сеткой дождя избы не кажутся мне сиротливыми и грустными; и вообще — ни в ту осень, ни весной, когда снова, едва стаял снег, я вышел в поля, на взгорья, ни разу не возникало в душе тяжелого чувства жалости ни к действительно сиротливо стоявшим избам, ни к земле, которая тоже теперь представляется мне сиротливой в совершенно не хозяйственных руках бригадира Кузьмы, ни к людям, что просыпались там, за бревенчатыми стенами, отдергивали занавески и хлопотали по дому, внося из-под навесов охапки сухого березового хвороста и скрипя прогибавшимися половицами (как под ногой Пелагеи Карповны, я наблюдал, когда она входила с полными ведрами или вносила все тот же заготовленный с лета хворост); меня радовал синий, курившийся над трубами дымок, я замечал лишь то, что говорило о жизни, и потому мне было все равно, ветер ли, набрасываясь ледяными порывами, откидывал и трепал полы плаща, барабанил ли дождь по капюшону, или летели, кружась, оседая и тая на мокрой и еще не остывшей с лета земле, белые крупные снежинки, я не отворачивался, не пригибался и не ежился, а, согреваемый одному мне понятным и ведомым, так, по крайней мере, казалось, чувством (мне хотелось весь мир одарить добротою, так же как мир этот одарил добротою меня), шагал, останавливался, вонзал лопату в мягкую пашню, брал пробу и опять шагал, заботясь лишь об одном, чтобы не ошибиться. Мне важно было знать и стоки вод, и то, как устилает поля снежный покров, где он тоньше, и потому весной раньше оголяется земля, и где толще; и надо было установить глубину пахотного слоя по склонам; когда же вечером, уже затемно, я наконец возвращался домой, еще роднее и дороже казалась деревня, избы с тусклыми огоньками в окнах, и еще большую радость и гордость вызывала во мне Пелагея Карповна, обычно встречавшая словами: «Господи, боже мой, ниточки сухой не сыщешь! Надо же так, да и просохнет ли за ночь все?» Она стояла посреди комнаты, и во взгляде (бывали случаи, когда только смотрела и молчала) каждый раз я ловил все то же выражение: «И чего это вы так мучаете себя?» — и улыбался, как и утром, потому что приятно было сознавать, какими и ради чего были эти мои, если так можно сказать, мучения. Из-за ее спины, из-под руки выглядывала Наташа, и в детских глазах ее было то же серьезное выражение, как у матери.
«Хор-рошо», — говорил я, снимая и слегка стряхивая у порога брезентовый плащ.
«Да уж куда лучше, — отвечала Пелагея Карповна, делая шаг вперед ко мне и беря из рук плащ. — Господи! Хоть бы свою мать пожалел, ничегошеньки-то она не знает... Ноги, поди, тоже мокрые? Снимай сапоги и давай портянки: сушить, так уж сушить все, а то завтра и надеть нечего будет. Опять же пойдешь, не вытерпишь».
«Конечно, а как иначе?»
«Го-осподи!..»
Встав на скамейку, Пелагея Карповна принималась развешивать над печью брезентовый плащ и портянки, а я уходил к себе; когда же, переодевшись, снова появлялся в большой общей комнате, на столе уже дымилась миска с борщом и хозяйка, прижимая буханку хлеба к груди, широким и потемневшим от времени ножом отрезала ломоть за ломтем и складывала их рядом с миской. Я смотрел на нее, и мне казалось, что от того самого хлеба, который она нарезала, от борща, от всей той деревенской избы, в которой я теперь находился, веяло старой и мудрой крестьянской трудовой жизнью, и жизнь та была понятна, близка и дорога мне; дорога, разумеется, не стариною, а чувством удовлетворения, какое охватывает каждого, и не только в деревне, при виде результатов своего труда; для крестьянина же результатом этим был хлеб. Я садился за стол, брал ломоть и, подмигнув удивленно глазевшей на меня Наташе (или ей некуда было уйти, или уж так велось в деревне — откуда-нибудь из угла комнаты она непременно наблюдала за тем, как я сажусь и пододвигаю миску), начинал есть.
Я ложился в постель со спокойными и счастливыми мыслями, сознавая лишь одно, что жизнь — это труд, а труд — это радость, и засыпал сразу, не успев даже увернуть фитиль в керосиновой лампе (лампу часто тушила, заглядывая в комнату, Пелагея Карповна), а с наступлением утра — нет, не повторялся прожитый день и чувства не повторялись, а все как бы возникало вновь, все ощущения и думы, и я радовался, как будто и взгорья и деревню внизу видел впервые, и волновался, представляя, что еще сделаю для долгушинских колхозников. Но вместе с тем жизнь деревни, хотел я или не хотел, открывалась для меня не только этой романтической, что ли, стороною; я замечал, что что-то будто сковывало людей, будто какой-то тяжелый дух смирения витал над крышами, и незримые нити от изб тянулись к одному, но не к бригадирскому, а к Моштакова-старика подворью. Может быть, если бы не предостережение Федора Федоровича, что всем в деревне верховодит старый Моштаков, главное же, если бы не та моя ночная встреча с бородачом во дворе Андрея Николаевича и не мешок с мукой, который старик вместе с Кузьмой внес и поставил у стены на застекленной веранде (странно, бывают вещи, которые запоминаются надолго; я постоянно помнил о мешке), что само по себе уже как бы вызывало подозрение, может быть, я бы и воспринимал все по-иному, и видел бы во всем, по крайней мере в ту осень, лишь почтение людей к пожилому и уважаемому на селе человеку; но я видел не почтение, а боязнь, да и сам, когда случалось проходить мимо моштаковской избы, испытывал тоже какое-то неприятное беспокойство, которое возникало вовсе не потому, что бригадир не давал коня; просто в застенной тишине за вечно задернутыми ситцевыми в горошек шторками, казалось, таилось что-то нехорошее, недоброе, чего нельзя было не чувствовать и не бояться.
Но что было этим недобрым?
Что позволяло старому Моштакову, возвысясь, стоять над людьми и держать их пусть в негласном, но повиновении?
Теперь-то я знаю что, и мне не нужно искать ни доводов, ни подтверждений, время научило понимать людей; но тогда, в девятнадцать, когда мир казался преисполненным добра, счастья и радости, далеко не все представлялось так, как оно было на самом деле. Ведь это мы только говорим, что жизнь в деревне открыта, что каждый у всех на виду; человек, которому нечего скрывать, везде одинаков, в городе или в деревне, но тот, у кого есть хоть малая от людей тайна, никогда не позволит так просто заглянуть себе в душу. Для долгушинцев Степан Филимонович Моштаков был именно тем человеком, который знал нечто большее о делах долгушинской бригады, и это нечто, как поплавок, как раз и держало его на поверхности и делало жизнь значительной в глазах сельчан и безбедной. Он не слушал, что о нем говорили; ему как будто было безразлично, осуждали или восхищались его изворотливостью и умением жить, и никто в деревне не помнил, чтобы Степан Филимонович упрекнул кого-нибудь за злое о себе слово; казалось, он не был ни мстительным, ни злопамятным, но как раз это и настораживало людей. «Может, копит обиды, таится, складывает», — думали они, а таящийся человек всегда страшнее любого открытого недруга, потому что не предугадаешь, когда и что он сделает; а то, что Моштаков мог сделать, знали в Долгушине все. К нему не только пригоняли на лечение коней (когда, с какого времени стал он конским лекарем, никто толком в деревне объяснить не мог; говорили, что чуть ли не с первого дня, как только образовался колхоз, но, может, на втором, третьем или четвертом году, когда в этом появилась особенная необходимость; и никто не знал, с чего все началось: перенял ли у кого это ветеринарное искусство, пока гонял с красной конницей Колчака по Сибири, или сам до всего дошел, заставила нужда, потому что, когда вернулся домой после всех сражений и надо было начинать хозяйство, привел откуда-то опаршивевшую и издыхавшую лошаденку и через год выправил ее так, что все удивлялись, и затем лошаденка эта еще работала в колхозе; в общем, с чего-то да началось все!), но привозили и сено и овес, и нередко приезжали сами председатели сговариваться то ли о цене, то ли еще о чем-то, конечно, приезжал и чигиревский, пили водку, гуляли до утра, но никто ни разу не слышал ни от самого Степана Филимоновича, ни от Кузьмы и ни от меньшой тогда Таисьи, ни от жены, Ильиничны, ни слова о том, что было говорено на вечере, и это тоже казалось сельчанам неестественным, дурным знаком. «Чего бы ему скрывать, ан нет, молчит», — рассуждали долгушинцы, и я теперь, после встречи с Моштаковым, тоже боюсь скрытных людей. Но, так или иначе, до войны, особенно когда в Долгушине существовал еще, правда, маленький, маломощный, но все же свой колхоз, Степан Моштаков не был так приметен, о нем забывали за суетою дел, и лишь по вечерам, когда в правленческой избе собирались мужики, чтобы покурить от души и обговорить завтрашний день, все видели, как Степан Филимонович усаживался где-нибудь поближе к двери и до полуночи, пока все не расходились, молча сидел и слушал, как спорили между собою, каждый доказывая свою правоту, бригадиры. Он не вмешивался ни во что и возвращался домой один; высматривал, ждал ли своего часа, или просто такой молчаливый характер (и отец его и дед, как вспоминали потом, тоже считались в деревне молчунами), он жил как будто и общею со всеми деревенскими людьми жизнью, и вместе с тем своею, обособленною, в которую невозможно было никому проникнуть, тем более познать ее; то ли он действительно любил свое дело, потому что часами мог обихаживать коня, по волоску перебирая гриву и смазывая парши или натертые седлами болячки, часами, не покидая стойла, чистил и гладил начинавшийся уже лосниться конский круп, или больше привлекала его оплата, но только когда выводил со двора игравшую, словно пружинившую на ногах вылеченную им лошадь, лицо его было равнодушно, взгляд спокоен, и, передавая поводья председателю или присланному конюху, коротко говорил: