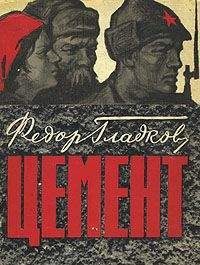Мотя смотрела на него сбоку, и в глазах ее, загруженных материнством, искрами дрожали слезы.
— Ой, Глеб… Как же мне вас, милых, жалко!.. Какая у вас несчастная судьба!.. Сгибла ваша дочечка Нюрочка… И ты — как бугай… без семьи и без теплого места… Теперь ты не жалуйся, Глеб… Ежели пошли по огню — понесли сами огонь… И Нюрочка меж вами вспыхнула пылинкой… Ой, как же мне прискорбно, Глеб!
Он отвернулся от Моти и стал набивать трубку.
— Ничего, Мотя… Огонь — неплохая дорога… Ежели знаешь, куда шагают ноги и глядят глаза, разве можно бояться больших и малых ожогов? Мы — в борьбе и строим новую жизнь. Все хорошо, Мотя, не плачь. Так все построим, что сами ахнем от нашей работы!..
— Ой, Глеб! Ой, Глеб!.. Наработал в своем гнезде на свою шею…
— Овва, построим новое гнездо, Мотя… В чем дело? Значит, старое гнездо было плевое… Ну как? Скоро родишь?
Она засмеялась одними глазами, и в лице ее затрепетало счастье.
— Ну да!.. Через месяц, Глеб… Ты будешь кумом — так и знай…
— Обязательно буду кумом. Только уговор такой: как увижу попа — посажу его в вагонетку и спущу по бремсбергу в дровяной склад. Эх, и сварганю же я твой родильный праздник, Мотя, — шишки завоют!..
Мотя радостно смеялась. Глеб пошел не домой, а вниз по улочке, к заводским корпусам.
Конец октября обрушился событиями.
Ночью 28-го был арестован Шрамм и немедленно отправлен в краевой центр. В эту же ночь были произведены аресты среди спецов совнархоза и заводоуправления. А 30-го партийцы взбудоражились: Жидкий отзывался в распоряжение краевого бюро ЦК, Бадьин назначался краевым предсовнаркомом, предчека Чибис перебрасывался куда-то далеко в Сибирь.
Этих событий ждали давно: об этом говорили в тихих беседах, передавали глухие слухи и волновались. Каждый новый день был насыщен смутным ожиданием. Но все эти события потрясли внезапностью и тем, что они совершились.
Каждое утро в обычный час Сергей шел в окружном с растрепанным портфелем, шел сосредоточенной походкой, сутулый, с неугасающим вопросом в глазах. Каждый день он точно и пунктуально выполнял партийные задания, работал по агитпропу, по политпросвету, не пропускал ни одного заседания, где присутствие его было необязательно, и никогда ни с кем не говорил о своей судьбе — о чистке, о своем исключении, о хлопотах по восстановлению себя в партии, точно все это было совсем не важно, а важно и неотложно было только то дело, которое он должен был выполнить по намеченному плану. И с того часа, когда он был в комиссии по чистке, он ни разу больше не заглядывал туда, не ходил ни к кому из ответственных товарищей за помощью, не волновался и не жаловался. Только голова его в длинных кудрях стала будто больше и тяжелее, и в глазах лихорадкой неугасимо горело страдание.
Он получил на руки коротенькую выписку из протокола комиссии и прочел ее внимательно, как читал все другие бумаги:
Слушали:
Ивагин Сергей Иванович — член РКП(б) с 1920 года, партбилет №…, интеллигент.
Постановили:
Исключить, как типичного интеллигента, разлагающе действующего на парторганизацию.
Выписку принесла Даша. Он сидел за столом в агитпропе я старательно работал над тезисами для докладов в ячейках по вопросу о рабочей кооперации. Даша посматривала на него и удивлялась: почему он так спокоен и беспечен? Почему он молчит и думает о чем-то далеком?
— Товарищ Ивагин, надо немедленно обжаловать постановление комиссии. Плевательную тактику — по боку.
Он улыбнулся ей влагой в глазах и вынул из портфеля мелко исписанную четвертушку бумаги.
— Я уже обжаловал, товарищ Чумалова. Это у меня — копия, на память. Я передал Жидкому. Партком ходатайствует со своей стороны.
— Если тебе надобно насчет отзыва, я напишу в одну минуту, товарищ Ивагин. Это — головотяпство: тебя нельзя было исключать.
— Если ты находишь, товарищ Чумалова, что это необходимо, напиши и передай Жидкому.
Он встал со стула и со стыдливой улыбкой протянул руку Даше.
— Но я ни на одну минуту не забываю, товарищ Чумалова, что я — коммунист, член партии, который свою работу должен выполнять без перебоев.
— Это так, товарищ Ивагин, но ты должен бить, тормошить, а не сидеть на стуле.
— Пока в этом нет нужды. Если же потребуется, встану со стула и пойду куда следует.
Даша опять пристально взглянула на него, и опять у нее брови дрогнули от удивления. Она усмехнулась и быстро вышла из комнаты.
На днях Полю отправили в санаторий. С тех пор как поселилась в ее комнате Даша, Сергей не заходил к нем. Она не звала его и не отворяла двери в его комнату. Она забыла о нем, и его бессонные ночи угасли в ее памяти. Он часто слышал прежний ее смех и звонкий голос, и голос этот переплетался с голосом Даши. Одиноко шагал он из угла в угол, и было грустно ему вдвоем со своим сердцем, а в душе дрожала радость, что в комнате Поли опять играли колокольчики.
Значит, нужно одно: партия и работа для партии. Личного нет. Что такое его любовь, скрытая в незримой глубине? Что такое его вопросы и мысли, ноющие под черепом? Все это — отрыжка проклятого прошлого. Все это — от отца, от юности, от интеллигентской романтики. Все это должно быть вытравлено до самых истоков. Все эти больные клеточки мозга надо убить. Есть только одно — партия. Будет ли он восстановлен или нет — это не изменит дела: его, Сергея Ивагина, как обособленной личности, нет. Есть только партия, и он — только ничтожная частица в ее великом организме.
В этот день он еще раз пережил прежние боли. В комнате Жидкого было необычно тихо и душно. Сидели; Бадьин, Глеб, Даша, Лухава и Чибис. Сдержанно говорил Жидкий.
— Против плана нет возражений? Принято. Итак, план празднования в окончательном виде таков: с утра отряды манифестантов собираются по районам…
Лухава грубо оборвал Жидкого:
— Не надо! Все это мы знаем наизусть. Дальше.
Глеб встал со стула и протянул руку к Жидкому.
— Брось, Чумалыч: вопрос исчерпан. Не о чем больше говорить! Крышка!
— Как это так — крышка? Я все-таки протестую против пункта: чествование героев труда. Это надо исключить. Какие герои труда? Какие это великие подвиги совершили, чтобы — в герои труда? Чепуха! Я не только о себе говорю… Прошу записать мое особое мнение…
Он заволновался и заходил по комнате.
— Чумалыч, не может быть никаких особых мнений. Что ты городишь ерунду? Олух ты этакий!
Чибис сидел, как обычно: не то дремал, не то отдыхал, скучая, не то думал о чем-то своем, чего никогда не скажет никому.
Бадьин опирался грудью о край стола и молчал, глухой и тяжелый: толкни — не столкнешь, ударь — не почувствует удара. А Даша улыбалась, и лицо ее вспыхивало румянцем.
Бадьин со скрипом в глянцевых складках тужурки ощупал глазами Глеба. Потом отвалился на спинку стула и положил ладонь на его грудь:
— Это у тебя что такое?
И похлопал пальцами по ордену Красного Знамени.
— А это — то самое, которое…
— Ну, и не притворяйся, пожалуйста, строгим спартанцем. Если бы ты был, скажем, Сергеем Ивагиным, стыдливым интеллигентом, тогда было бы понятно и правдоподобно. А тебе это совсем не идет.
Лицо Глеба налилось кровью, и глаза стали мокрыми. Он шагнул прочь от Бадьина и глубоко засунул руки в карманы.
— Прошу, товарищ предисполком, мне не указывать. Я возражал и буду возражать против предложения товарища Бадьина. Если нужно, пристегните ему героя труда: пусть идет дальше командовать с этой новой нашивкой.
Жидкий стучал карандашом по столу и раздувал ноздри, будто сдерживал смех.
— Кончено, кончено, товарищи!.. К порядочку!..
Лухава остро, с огоньком смотрел на Глеба и на Бадьина и весело смеялся.
И впервые в глазах Бадьина увидел Глеб чугунную ненависть. Тогда, весною, в его глазах так же мутно наплывала густая волна, но там было другое: там была настороженность. Тогда было любопытство и что-то другое, чего он не мог понять. И сейчас так же, как и весной, в час первого свидания с ним, Глеб почувствовал потрясающий удар до глухоты в ушах.
— Глеб! Очухайся!.. С цепи ты, что ли, сорвался?..
Даша смотрела на него строго, с дрожью в веках. И когда Глеб увидел эти ее глаза и бледное лицо, сердце его обожглось болью и яростью… Даша… Бадьин… Даша, его жена… Она была с ним тогда, в станице… Ночь в одной комнате и на одной повели. Тогда Дашины слова не были шуткой…
Жидкий опять стукнул карандашом по столу и закричал:
— Да к порядку же, черт вас подери!.. Успокойся, Чумалыч! Все решено и кончено.
Чибис щурился и смотрел сквозь ресницы.
— Садись, Чумалов! Выдержанный член партии, а валяешь дурака. Садись.
Бадьин по-прежнему мутно глядел на Глеба и сидел неподвижно и тяжело.