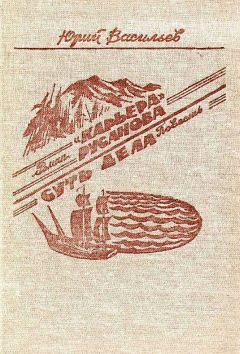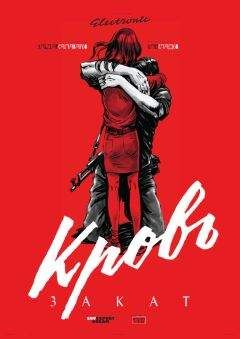— Что-нибудь случилось? — спросила она. — Я же сказала: сиди, носа не высовывай.
— Напугал я тебя, однако, — рассмеялся Геннадий. — Теперь каждый раз при виде меня ты будешь вздрагивать… Ничего не случилось.
— Сейчас ты на человека похож. А вчера я и вправду перепугалась. Такой ты весь был… Не знакомый… Уснул, как щенок. Мне даже будить тебя было жалко. Я хотела…
— Маша, — перебил ее Геннадий. — Я сейчас уезжаю в тундру. Со Шлендером. Дня на четыре.
— Поезжай, — не сразу ответила Маша.
— Мне это нужно, понимаешь? Я не могу… Пусть она вертится без меня, эта свистопляска!
В кабинет вошел Карев.
— Мария Ильинична, вы обещали… — Он осекся, посмотрел на Геннадия. — Здравствуйте, молодой человек.
— Антон Сергеевич, — сказала Маша, — это Геннадий Русанов. Познакомьтесь.
— Мы знакомы, — сухо кивнул Карев.
«Вот и все, — подумал Геннадий. — Великолепный финал. Глупее не придумаешь. Черт меня дернул тогда за язык… Теперь я стою перед ним голенький».
— Мы знакомы, — повторил Карев. — Вы уже поговорили? В таком случае, Геннадий Васильевич, прошу вас на минуту ко мне. Я вас не задержу…
Они сидели напротив друг друга. Карев, подперев голову рукой, внимательно смотрел на Геннадия. Геннадий, неудобно примостившись на краешке стула, отводил глаза.
— Ловко получилось, — наконец сказал он. — Ну что ж, можете меня разоблачать.
— А собственно, в чем? Я как-то не улавливаю…
— Прекрасно вы все улавливаете! И все хорошо помните.
— Помню. Чаек у вас был отменный. И термос удивительный. Я только однажды видел похожий, его сделал монтажник Семен Николаевич Бурганов. Не слышали о таком?
— Это его термос и есть. Как видите, дорожки сходятся.
— Вот оно что…
— Товарищ редактор, — вызывающе сказал Геннадий. — Вы ведь меня не затем пригласили, чтобы о чаях разговаривать.
— Да-да… Я понимаю, вас расстроила встреча со мной, со свидетелем вашей сомнительной бравады. А ведь вы, помните, собирались… Хм… Стучать золотыми подковами по черепам дураков, как говорил Алексей Толстой… Эх вы, сильная личность! Сразу и скисли.
Но Геннадий уже пришел в себя. И успел разозлиться.
— Проигрывать надо красиво! — сказал он. — Хотите, я помогу вам написать опровержение на все, что вы печатали в своей газете о передовом шофере Русанове? Безвозмездно помогу.
— Опоздали, Геннадий Васильевич. — Карев вытащил из стола картонную папку и положил перед Геннадием. — Полюбуйтесь!
Геннадий перелистал бумаги. Это было целое досье — вырезки из газет, докладные записки, копии решений товарищеского суда и коллективное письмо шоферов Курильского рыбозавода. Первым подписался под ним тот самый учетчик, которого Геннадий имел когда-то неосторожность уличить в приписках.
— И давно вы это храните?
— Порядочно… Архивы у нас захламлены, так что можете взять на память.
— Но ведь на эти письма надо было ответить?
— Мы ответили. Написали, что привыкли судить о человеке по его делам, а не по тому, что пишут о его прошлом. И не по тому, что он сам о себе рассказывает на заснеженных горных перевалах.
Карев на секунду словно бы расстегнулся, глаза его под пенсне весело блеснули.
— Спасибо, — тихо сказал Геннадий.
— Не за что… Но когда будете еще раз оттачивать параграфы своего социального закона, не поленитесь обосновать мотивы, по которым я вернул вам эти бумаги. А когда обоснуете — можете поделиться. Мне будет любопытно.
— Я, пожалуй, пойду, — сказал Геннадий после паузы.
— Идите… Кстати, вы обещали Марии Ильиничне статью о целесообразности контейнерных перевозок. Вы не забыли?
— Я ничего не забываю, Антон Сергеевич. У меня хорошая память…
Утром, выходя из дома, она знала, что надо делать. А теперь сидит у себя в кабинете, перебирает бумаги, и мысли скачут, как зайцы. Это тебе не очерк писать о передовом шофере. Тут думать надо… Пойти к начальнику милиции? Да, конечно, хотя она представляла, как ее там встретят. Вежливо, с улыбкой — работают они давно в полном контакте, что называется, — а в глазах: не мешала бы ты нам делом заниматься.
Но самое главное, она совершенно не знала, о чем и как будет говорить. Есть какие-то следы, вмятина, есть автоинспектор, и он установил, что виноват Русанов. Все это они скажут Маше, вернее, не Маше, а корреспонденту Строговой. Так и так. Экспертиза, показания. Что она им может противопоставить? Сказать — я ему верю? Лучше уж тогда сказать — я его люблю.
Вчера, когда Геннадий уснул, она долго не могла прийти в себя. Не верилось, что это случилось рядом, вот здесь, у них в районе. Демина она хорошо помнит, обыкновенный парень. Чуб у него из-под шапки торчит. Да нет, такого не бывает! А если бывает, то об этом надо кричать, бить в колокола, а Демина… Ну что с ним делать? Раньше ставили к позорному столбу. А сейчас?..
Она пыталась убедить себя, что вся эта история волнует ее в первую очередь как журналиста, и в то же время понимала, что да, как журналиста это ее интересует вообще, а вот сейчас, сию минуту, ей надо что-то делать потому, что это касается Геннадия.
Неужели только вчера она приехала к нему и читала эти нелепые, злые слова, увидела его в дверях — словно постаревшего сразу, бледного, с капельками пота на лбу?
Теперь она знает о нем все. Или почти все. Он сидел на диване, нахохлившись, словно мокрый воробей, и говорил. Монотонно, тихо, как будто рассказывал о каком-то далеком и неинтересном знакомом. Маша пыталась хоть на минутку представить себя на его месте — какой бы она стала, пройдя по его дорогам, — но не могла. Она просто не прошла бы по ним.
Сейчас она как бы заново перечитала эту тетрадь в клеенчатом переплете и уже не спотыкалась, как вчера, не вздрагивала от каждого слова. Все было понятно. Только он еще ничего не понял.
Семь лет он ходил по обочинам. Пил. Смотрел на мир сквозь мутные стекла случайных пристанищ. «Я ушел из Москвы с третьего курса,— писал он, — не зная куда, зачем, подгоняемый страхом и водкой, с тоскливо-приятным убеждением, что жизнь сломала мне позвоночник. Я помню все вытрезвители этих лет и не слишком помню людей, встречавшихся на пути…»
Он не видел ничего, кроме бережно хранимого отчаяния. Что это? Слабость? Трусость? Безволие? И слабость, и страх, и ранимость, и, наконец, простая привычка при малейшей трудности, а то и просто так хвататься за рюмку — все смешалось и спуталось в эти годы… И вот постепенно, как щит, а лучше сказать, как скорлупа, начало складываться его отношение к людям…
А сейчас? Сейчас это еще просто инерция. Он живет, работает, смеется, играет в снежки и каждый день стряхивает с себя все, что успело налипнуть, пока он ходил по обочинам.
Маша посмотрела на часы. Одиннадцать. Пора идти в милицию. Она улыбнулась, вспомнив, какое смешное, почти детское выражение было у Геннадия вчера, когда он спал, уткнувшись носом в подушку. Она испытывала материнскую нежность к этому большому, взлохмаченному человеку с круглым мальчишеским затылком.
Начальник отделения милиции Горышев встретил Машу приветливо, усадил в кресло и попросил дежурного никого к нему не пускать. Внимательно выслушал, потом подумал немного и спросил:
— Простите, Мария Ильинична, но я как-то не понял толком, что же вас все-таки интересует?
Маша поморщилась. Действительно — что?
— Лев Васильевич, это дело не совсем обычное, правда?
— Да как вам сказать? В нашей практике подобные вещи случаются не так уж редко. Человек совершает преступление и пытается возвести вину на другого.
— Даже на того, кто его спас?
— Сколько угодно… Но почему вы думаете, что Демин напрасно обвиняет Русанова?
— Я ничего не думаю, — сказала Маша, сообразив, что отвечать надо именно так. — Но пока вина одного из них не доказана, мы обязаны считаться с обоими вариантами. Так ведь?
— Несомненно.
— Значит, Русанов может оказаться невиновен?
— Может.
— Это решит суд?
— Конечно. До суда он всего лишь обвиняемый.
— А Демин?
— Почему же Демин? Видите ли, Мария Ильинична, против Русанова улики довольно серьезные, я бы даже сказал — неопровержимые улики. А против Демина? Всего лишь голословное утверждение человека… М-м. Ну, которому выгодно так утверждать. Вы понимаете?
— Понимаю… Но давайте все-таки представим, что Русанов окажется невиновен. Суд оправдает его. Но суд состоится, и судить будут человека, который рисковал жизнью, чтобы спасти негодяя.
— Какого негодяя? — мягко перебил ее Горышев. — Ну, зачем же так, Мария Ильинична?