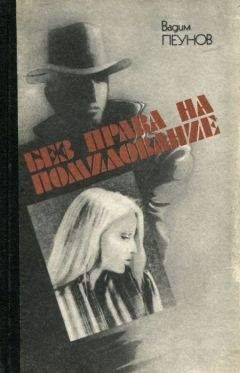Выскочил шофер, попытался снять крышку радиатора, да, видать, сдуру-то обжегся. Выругался на всю улицу и полез в кабину. Вытаскивает старую, промасленную фуфайку, накинул на радиатор и прихватил ею крышку.
Экспедитор — человек уже в годах. На плечах — серенький дешевый пиджачок (в рубчик). Вылез из кабины, огляделся: где тут можно приткнуться, присесть? Тяжелым движением замученного человека стянул с головы, блеснув загорелой лысиной, капроновую шляпу (такие уже давно списали на всех базах как неходовой товар, но именно этот паркий вид головного убора чем-то привлекал сельских кооператоров и поселковых снабженцев). Экспедитор в доходчивой форме разъяснил шоферу-неудачнику его место в экономической структуре страны:
— Тебе не баранку — хвосты быкам крутить! Детскую коляску и то нельзя доверить!
Шофер в долгу не остался, охотно поделился с лысым экспедитором своим мнением о проблеме запасных частей к машинам, которые уже четверть века сняты с производства.
— Только идиот может возиться с таким драндулетом. Ему в обед сто лет! Уволюсь! На шахте обещали самосвал. Почти новенький: после «капиталки»!
Словом, обменялись мнениями.
Рабочий, сидевший вопреки всем правилам техники безопасности на ящиках (Поселок — тут свои нравы, обычаи и правила дорожного движения), начал подначивать шофера, суетившегося возле мотора:
— Коля! А заварочку припас? Угости чайком!
Коле и без того тошно. Он пригрозил молодому, озорному рабочему:
— Вот угощу... заводной ручкой! А ну слезай с ящиков! Я из-за тебя прав лишаться не намерен! Дотопаешь до базы, пока я тут вожусь.
День уходил в прошлое, откуда ему уже не было возврата. По пыльной обочине дороги величественно прошлепали две коровы, сыто мотавшие головами. За ними брела тетка в старенькой фуфайке, державшая в одной руке клюку Бабы-Яги, а в другой — складной брезентовый стульчик.
Это были, по всему видать, последние буренки в рабочем поселке, где мода на «свою скотину» уже закончилась. Да и зачем держать? Морока! Хлопоты! Правда, молоко от хозяйской коровы — в цене, спрос на него опережает предложение.
Подошла тетка в фуфайке к высоким тесовым воротам, постучала своим батогом, смахивающим на клюку Бабы-Яги, в калитку и громко закричала в расчете на то, чтобы ее услыхала глухая хозяйка:
— Мефодьевна, а Мефодьевна, молоко седни брать будешь? Ежели нет — отдам завмагше, у ейной дочери перегорело в грудях молоко, выпаивают младенца коровьим.
И, словно бы ожидала этого зова, на крыльцо, не мешкая, вышла согбенная годами седая старуха. Проворчала недовольно:
— Нонче не надо никакого молока: съехали мои постояльцы. — И массивная, тяжелая дверь в скороходовский дом захлопнулась.
«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Иван Иванович переглянулся со Строкуном: «Съехали постояльцы!»
— Что же теперь? — озадаченно спросил Иван Иванович. — Предупреждал же Дорошенко: у Папы Юли на опасность — волчье чутье.
Строкун досадовал:
— Сволота! Может, где-то в пути выплывет, кажется, все ходы-выходы перекрыты. Но в дом войти все же придется, так что операцию продолжаем по плану.
По плану, значит, по плану...
В соседнем дворе заквохтали потревоженные куры. Мать велела своим сорванцам загнать птицу в сарай, а те готовы изо всего сделать забаву. Наперегонки!
Чему удивляться? Все мы в десять-двенадцать лет были непоседами, неугомонными озорниками...
Две курицы и петух взлетели на забор. А оттуда — в соседский двор. Мальчишки — поселковая босота — лихо вслед за беглецами перемахнули через забор.
— На место, клятые кудахталки! Кыш! Кыш!
Куры встревожено оглянулись, поняли, что неприятностей не избежать, от этих хулиганистых голопятых пацанов хорошего не жди, и, спасая свою жизнь, бросились наутек. Кто — куда! Квохчут, крыльями отчаянно хлопают. И прямиком через небольшую клумбочку последних осенних георгин и скромных невест осени — астр. Мальчишки — за ними. Орут! Весело озорникам. А куры от страха совсем головы потеряли: мечутся, изводятся.
— Вовка! Петуха! Петуха хватай!
Тут распахивается дверь, и на крыльце с веником в руках появляется хозяйка. Кто же останется равнодушным, если у тебя на глазах топчут цветы. Ты вскапывала эту землю, сажала, лелеяла, поливала. А они — басурманы!
— Хулиганье! — закричала старуха. — Чтоб вы сдохли, клятые! Чтоб вам глаза повылазили! Чтоб ваши руки поотсыхали!
И с веником — к ним! Но разве старухе, согнутой колесом, успеть за шустриками? Они было назад к себе через забор, да не так-то легко забраться по нему. Тогда старший бросился к воротам.
— Вовка! — крикнул он брату.
Калитка в воротах закрыта на специальный засов, двигает мальчонка засов, а подоспевшая старуха колотит его веником по спине, по голове! И поделом безобразнику. Калитка распахнулась, и один из мальчишек прямиком туда. Второй — за ним. Зацепил несчастную старуху и за собой поволок. На этом игра и закончилась. Бабулю тут ждали «экспедитор» и «рабочий», которого шофер-злюка согнал с машины, с ящиков.
Пока возле ворот шла неразбериха, группа захвата, которую возглавлял Иван Иванович, успела перемахнуть через высокую преграду напротив глухой стены.
Иван Иванович юркнул под плотную ставню и встал в простенке. Свои места заняли и остальные пятеро.
Тем временем Строкун допрашивал старуху.
— Прасковья Мефодьевна, кто у вас сейчас гостит?
— Никого нету, — сердито отозвалась Скороходова. — Да вам-то што до мово дома?
— А где же Юлиан Иванович и его друг?
Старуха пристально поглядела умными светлыми глазами на полковника милиции, вдруг ойкнула, словно ее ударили, грохнулась на землю и, обхватив Строкуна за ноги, громко, визгливо закричала:
— Лю-удоньки-и... Помоги-и-те-е! Убивают живую! Ой-ой-ой!!!
Первое естественное стремление мужчины — поднять пожилую женщину, распростершуюся у твоих ног. Смотреть со стороны на такое унижение седоголовой старухи — просто омерзительно! Уже появились из соседних домов люди, привлеченные отчаянным призывом о помощи. Прасковья Мефодьевна мертвой хваткой вцепилась в своего «обидчика», как будто вот так держаться за полковничьи ноги было основной ее специальностью все прожитые годы.
— Ой! Убивают! Морду-ют! Ряту-уйте, людоньки-и-и...
Иван Иванович, притаившийся возле глухой стены дома, не знал, что происходит на улице, но догадаться было не трудно: старуха подает сигнал тревоги тем, кто в доме. «Похоже, что постояльцы Прасковьи Мефодьевны не съехали, хотя от молока она отказалась».
Пока двери в сени не заперты, надо спешить!
Иван Иванович бросился к крыльцу, увлекая за собою участкового инспектора лейтенанта Кряжа — тот стоял в оконном проеме ближе всех к входу в дом.
Увы, было уже поздпо! Дверь оказалась запертой. Из окна через щель в закрытой ставне негромко, по-игрушечному, «чавкнул» выстрел, и лейтенант схватился за бок.
— Угадал, сволочь! — выругался он, оседая на крыльце.
Прижал левую, свободную от оружия, руку к голубоватой рубашке, с удивлением глянул на кровь, которая липла к пальцам. Иван Иванович подхватил его и потащил под укрытие глухой стены. Он все ждал, что Папа Юля выстрелит: сидевшие в доме через щели в ставнях отлично видели все, что делается во дворе.
Но Папа Юля не стрелял. По заверению Дарьи Семеновны, он хорошо знал майора милиции Орача, своего давнего врага, который вот уже двадцать с лишним лет искал его повсюду. Возможно, Ходан следил за ним. Наблюдал, как тот выходит по утрам из дома и спешит на работу. Бывает, что преступника тянет к своей жертве, которую он в свое время пытался убить, да не смог. А может быть, в своем бывшем соседе Гришка Ходан видел себя, свою несостоявшуюся жизнь? Вставая поутру, слушаешь щебетанье сынишки, а приходя вечером с работы, уставший до чертиков, включаешь телевизор и говоришь любимой женщине: «Да брось ты эту посуду, не убежит. Иди, посиди рядом». А она отвечает анекдотом: «Женщина-оптимист — это та, которая оставляет с вечера немытой посуду в надежде, что с утра ей непременно захочется ее вымыть».
И все-таки она оставляет кухню и идет к тебе, садится рядом на диван, а ты мягко, по-домашнему, положишь ей руку на плечи...
Не выстрелил, позволил майору унести раненого участкового инспектора. Может, Папа Юля просто пожалел пулю на своего бывшего друга? Друг мой — враг мой... Но не мог Папа Юля не знать, что миром им уже не разойтись.
Подошла пожарная спецмашина, вызванная заранее и ожидавшая неподалеку. Сдала задом, толкнула забор, повалила его, вернее — выбила проход против глухой стены.
Раненого лейтенанта унесли.
Иван Иванович, стоя в сторонке, постучал рукояткой пистолета по ставне и крикнул:
— Кузьмаков! Не выписывай себе высшую меру! Дом и двор оцеплены — сдавайся!