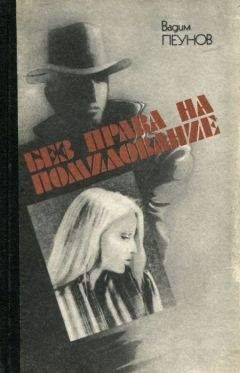Подошла пожарная спецмашина, вызванная заранее и ожидавшая неподалеку. Сдала задом, толкнула забор, повалила его, вернее — выбила проход против глухой стены.
Раненого лейтенанта унесли.
Иван Иванович, стоя в сторонке, постучал рукояткой пистолета по ставне и крикнул:
— Кузьмаков! Не выписывай себе высшую меру! Дом и двор оцеплены — сдавайся!
Иван Иванович умышленно не вспоминал Гришку Ходана. Тому терять нечего. Если осталась в нем капелька мужества, он постарается одну из пуль приберечь для себя. Но как в таком случае он поступит с Кузьмаковым?
Уведет за собою на тот свет предпоследней пулей?
Нельзя позволить! Нельзя позволить совершиться еще одному преступлению!
После смерти Голубевой Иван Иванович не однажды с горечью думал, что если бы в свое время Дорошенко и Кузьмакова расстреляли (а он, не беря греха на душу, подписал бы такой приговор), то скольких обид и трагедий удалось бы избежать!
На предложение прекратить бессмысленное сопротивление раздалось два выстрела. Это был ответ Папы Юли и Кузьмакова.
Надо было принимать срочные меры. Во что бы то ни стало — взять живыми!
Пожарная машина встала напротив одного из окон и напором воды из пушки-монитора ударила по плотной ставне, сработанной из доски-полудюймовки. Вода, казалось, в бессильной ярости грызла неподатливое дерево. Но Иван Иванович как-то видел: горела нефтебаза и таким монитором буквально разрезали баки прежде, чем залить их специальной пеной-гасителем.
Шли мгновения, секунды. В полутора метрах от Ивана Ивановича острый напор воды пытался разбить ставню. Брызги летели в лицо и больно секли. Пришлось, юркнув под соседнее окно, уйти подальше.
Из-за ставни, видимо, стреляли по машине. Но выстрелов не было слышно — яростно ревела вода. Иван Иванович заметил, как пули оторвали от забора несколько щепок.
Исход схватки, в общем-то, был предрешен. Вода сорвала ставни с петель, а потом раздробила их.
В это время вторая пожарная машина подошла к проему. Кто-то из группы захвата всунул в него широкий гофрированный рукав-шланг, по которому мотор погнал пену.
Из дома продолжали стрелять.
Но монитор бил по закрытым ставням, не позволяя прицелиться.
Вдруг рукав вытолкнули из окна.
— Ротозеи! — услышал Иван Иванович голос Строкуна, который был где-то рядом с машинами — руководил операцией. Иван Иванович, забыв об опасности, подбежал к окну и, подхватив рукав, из которого лезла и быстро пучилась синевато-фиолетовая пена, вновь воткнул его жесткий конец в проем окна. На него хлюпнуло. В нос, в рот попала пена, забила дыхание.
«Ну и дрянь! Ну и гадость!» — выругался он.
Присел, прячась от возможных выстрелов, но продолжал держать рукав: «Если и попадет, то в кисть!»
Монитор бил хлесткой струей в провал окна, не позволяя приблизиться тем, кто был в доме. Пена выщипывала глаза. Рот был забит чем-то горьким и противным. У Ивана Ивановича было такое ощущение, словно пена лезет уже в легкие, в нос, в уши. От этого ощущения тошнило. Началась рвота. Мучительная, неотвратимая. Он выпустил из рук гофрированный рукав, схватился за грудь, за живот. Силы покидали его. Тогда Иван Иванович пополз прочь, к забору, не думая ни о чем.
Впрочем, из дома уже не стреляли. Видимо, Папа Юля и Кузьмаков тоже захлебнулись в пене.
Ивана Ивановича подхватили под руки, оттащили в сторону, стали отмывать.
Сколько минуло времени, пока он пришел в себя! Наконец отдышался, стянул рубашку и попросил, чтобы на него лили воду. Побольше. Ему бы сейчас в быструю реку или в Тихий океан и плыть, плыть против течения, смывая с себя эту синевато-фиолетовую дрянь. Уже, кажется, все, можно бы и прекратить водные процедуры, но поселился на донышке души (которая обитала где-то в районе пяток) испольный страх, что, как только перестанут его обливать, гадостное ощущение тошноты вернется.
Кузьмакова вывели во двор. Он был в наручниках. Иван Иванович невольно вспомнил кличку — «Суслик».
Увидев Ивана Ивановича, Кузьмаков узнал его и зло сказал:
— А Папа Юля амнистию себе объявил! Тю-тю — воркутю! — и попытался злорадно рассмеяться. Только сил у него на это уже не было.
Дом обыскали самым тщательным образом (может, Папа Юля забрался в какой-нибудь тайник?). Увы...
Поняв, что притворяться безумной уже ни к чему, старуха заговорила:
— Нету Юльки. Сказал: «Прогуляюсь», и от того часу его нету.
С какого именно «часу», она вспомнить не могла, — скорее всего, не хотела.
Только теперь Иван Иванович понял, почему, казалось, в безнадежной ситуации Кузьмаков отстреливался: он тянул время, позволяя Папе Юле уйти как можно дальше.
«Оборотень», — назвал Жора-Артист Папу Юлю. Иван Иванович тогда как-то не поверил в это. Нет неуловимых! Бывают ротозеи, которые упускают ловких и хитрых, вот, оказывается, есть и неуловимые... Усадьбу Скороходовой окружили часа четыре тому. Как же Папа Юля сумел уйти?
Иван Иванович был убежден:
— Недавно. Иначе Кузьмакову не было бы смысла отстреливаться, держать нас всех возле себя.
Работники горотдела остались продолжать обыск, а Иван Иванович и Строкун приступили к допросу Скороходовой и Кузьмакова. Надо было хотя бы ориентировочно узнать: когда ушел из дома Папа Юля и куда он мог податься?
По прошлому опыту Иван Иванович знал, что Кузьмаков — орешек жесткий, с ходу от него никаких сведений не получишь.
Загнанный тарантул бьет себя насмерть
Далеко Папа Юля уйти не мог. Поэтому, по распоряжению Строкуна, направили наряды и патрулей по всем общественным местам, где может задержаться человек, не вызывая подозрений: кинотеатры, парки, рестораны, столовые, буфеты, больницы...
План поисков в подобных ситуациях известен, общие меры разрабатываются заранее.
Куда мог податься Папа Юля? В его распоряжении было часа три-четыре... Он мог полевыми стежками-дорожками уйти километров за десять и где-то за городом сесть на попутную машину или на поезд... Не обязательно пассажирский, — товарный тоже подходит. Или рабочий, из тех, которые останавливаются, как говорится, возле каждого столба.
Но, помня разговор с Дорошенко, Иван Иванович почему-то был убежден, что Папа Юля рисковать не станет, а переждет тревогу в самом Красноармейске.
Наладить ночное патрулирование!
Перекрыть вокзалы!
Через дворников, дружинников и общественность постараться выяснить, у кого сегодня ночуют гости.
Но как всю эту армию помощников снабдить портретом Папы Юли?
— Думаю, что внешность он уже изменил, — высказал предположение Иван Иванович. — Тут, скорее всего, потребуются общие признаки: возраст, широкие, слегка опущенные плечи. Ходит вразвалочку, глаза — злые.
Иван Иванович возглавил одну из групп, которая прочесывала ближайшие к городу посадки. С ним было четверо, в том числе проводник с розыскной собакой. Обошли километров двадцать густых зарослей. Устали, исцарапались, и без результата вернулись к утру в город.
Строкун, возглавлявший штаб поиска, рассказал Ивану Ивановичу о последних новостях.
— Участкового прооперировали. Врачи говорят: состояние удовлетворительное, но по их словам «удовлетворительное» — значит, еще дышит. Был я в больнице. Позволили взглянуть лишь через стеклянную дверь.
— Какие показания дает Кузьмаков?
Строкун безнадежно махнул рукой:
— Брызжет желчью... Откуда у него такая ненависть ко всему живому? Как загнанный тарантул: готов сам себя ужалить. Я предупредил ребят из ИВС: пусть присматривают, не учудил бы чего-нибудь. И все равно дали маху. Обыскали самым тщательнейшим образом — я сам присутствовал, а лезвие безопасной бритвы проморгали. Вскрыл себе вены, потолки, и стены камеры кровью окропил. Сам понимаешь: врач, перевязки. А он бинт зубами срывает...
У Строкуна вид неважнецкий: глаза — красные от бессонницы, как у ангорского кролика. Подглазья — словно полковник милиции провел смену в угольном забое с отбойным молотком в руках, не успел отмыться и вышел на белый свет к людям с черно-синими разводами. Голос — вконец охрип. А в чугунной пепельнице, изображающей смеющегося Мефистофеля, — гора окурков. Строкун курил много и с удовольствием. А когда время позволяло, мастерил из обрывка газеты «тюричок» — ходил ли, сидел ли, «тюричок» держал в руках и стряхивал в него пепел.
В минувшую ночь было не до «тюричка». Впрочем, может, гору окурков заготовлял не один он.
— Знаешь, Ваня, — доверительно обратился Строкун к своему другу, — у меня создалось впечатление, что Кузьмаков о судьбе Дорошенко не знал. Я ему намекнул, что адресок «хаты» в Красноармейске мне дал Жора-Артист, решил, мол, повиниться, так как у них с Папой Юлей нелады из-за Дашуниного магазина. В глазах Кузьмакова промелькнуло недоверие. И он понес: «Папа Юля не дурак, чтобы грабить магазин Жориной зазнобы! Да и Жора сдохнет, но кента не заложит, а за Папу Юлю он петлю себе оденет». Я пообещал ему завтра устроить свидание с Жорой-Артистом, дескать, он сам растолкует, для какого дела Папа Юля велел ему, Суслику, раздобыть «колеса» под Моспино. И еще один факт для размышления я подбросил Кузьмакову: Папа Юля на квартиру к Дашуне не явился, он мог не знать, что Жора обиделся на него из-за любимой и повинился, но то, что там засада, каким-то образом пронюхал, так что, вернувшись в Красноармейск, взял необходимое и ушел, оставив Суслика заложником. После этого физиономия у Кузьмакова стала буро-малиновой, а я как ни в чем не бывало перевел разговор на тему: где стретинский и благодатненский товары? Кузьмаков, как и следовало ожидать, начал выкидывать коленца. Довелось создать ему возможность поразмышлять наедине. А он вскрыл вены. Неужели я его так расстроил, что он решил покончить счеты с белым светом? — досадовал Строкун.