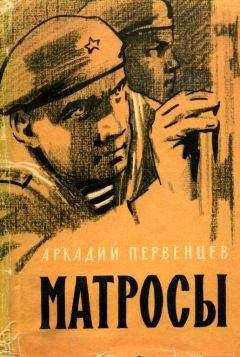— Грязное белье оставьте здесь, — посоветовал он, — разовое же…
— Как дела, товарищ Мовсесян?
— Как сажа бела, — Мовсесян сверкнул желтоватыми белками, — потому и спешу под струю.
— Вышли из-подо льдов?
— Что вы, мой дорогой! Крыша, по-прежнему крыша…
В штурманской Исмаилов разгрыз предложенный ему леденец, обертку скатал в шарик и для пущей наглядности положил на отмеченную в путевой карте точку.
— Примерно сто миль восточнее мыса Наварин.
— Прекрасная штука, — Ушаков очертил пальцем окрашенную густыми тонами центральную котловину Берингова моря, — отличная купель для нашей «Касатки».
— До нее еще надо добраться, до купели.
Исмаилов продолжал сосать леденец. Его брови выражали недовольство. Для дурного настроения были уважительные причины. Приборы регистрировали критические цифры, глубины уменьшались, а толщина ледяного покрова неожиданно увеличилась, хотя, по расчетам, должно было быть по-другому. Вероятно, попали в район предзимнего торошения вмерзших айсбергов.
— Под килем двадцать восемь, — Исмаилов энергично потер переносицу, — над рубкой тоже считанные метры. Это тот самый железно выполненный штурманский тоннель до Командоров…
Исмаилов не докончил. Позади него возник хмурый Стучко-Стучковский.
— Пора вам усвоить, товарищ капитан-лейтенант, — штурман пожал руку Ушакову, подвинулся плечом к плечу к Исмаилову, — в условиях подледного плавания в мелководных районах штурманская служба имеет дело с неустойчивыми, изменчивыми элементами. Подтрунивать над самим собой не рекомендую… — Полушутливый тон не мог скрыть раздражения Стучко-Стучковского, и Исмаилову пришлось сконфуженно извиниться.
Волошин снизил ход. Так иногда бывает при самой наилучший дифферентовке. Осторожность командира относилась к его преимуществам. Волошин не винил штурманов. Здесь — не степи…
Чувствительный прибор выводил на ленте линию. Подводники предпочитают стабильный лед — он в большей мере однороден и, дрейфуя над глубоководными районами арктического океана, не опасен для корабля.
В морях штормовых с сильными встречными течениями лед формируется хаотически. Ближе к берегам от ледников откалываются айсберги, которые обычно вызывают восхищение праздных пассажиров. Трудно возразить — зрелище плывущей ледяной горы, особенно при солнечном свете, действительно впечатляет.
Для моряков айсберг — зло, и, если бы их вообще не было, никто бы не уронил слезы. Подводная лодка предохраняет себя глубиной, но на мелководье, в районах, где айсберги вмерзают и включаются в дрейф, крайне опасны их зубья, и штурману не предугадать, будь он хоть семи пядей во лбу, где подстерегает корабль вот такой коварный бивень.
Внешне все оставались спокойны. Никто не повысил голоса, не нервничал. В неярком свете, будто в замутненной воде, склонялись, разгибались или оставались в неподвижности разные и в то же время одинаковые фигуры. Разноголосая гамма работающих приборов, свечение точек на щитах, щелкание переключателей симфонически прочно сочетались с ритмичным гулом двигателей.
Корабль изменял курс: щупали более надежные ворота к центральной котловине, маневрировали, чтобы познакомиться с местностью и попутно уточнить лоции.
Площадка возвышала Волошина над остальными людьми равного с ним роста. Но, не будь площадки, все равно он был бы выше всех. В нем центр, средоточие воли, на нем замыкается все, и совсем не пустяк поведение командира. Что бы ни случилось, ни лицо, ни голос не должны выдавать. Ни одного лишнего движения, опрометчивого приказания, никакой резкости и тем более брани. Психические центры подчиненных обостряются, чуткость их равна импульсивным приборам.
И вот наконец глубины постепенно увеличивались, дно выравнивалось, впереди было «весьма глубоководно и чисто от опасностей».
— Кисловский, заступайте на вахту! От мест по боевой тревоге отойти! — Волошин потер ладонями щеки. — Вышли!
— Есть, товарищ командир! — Кисловский всем своим видом дал понять, что управление кораблем вновь доверено только в его руки.
Никто из других офицеров не мог так бестрепетно и властно пользоваться своими правами. В этом молодом человеке, с бачками на бледных щеках, с тонкими губами и острыми, ясными глазами, таилась та самая подспудная сила, которая позволяет стать командиром, поверить в себя и заставить довериться других. Еще в начале плавания Ушаков заметил этого офицера, попытался сойтись с ним. Не удалось. Кисловский смотрел на журналиста свысока и не принимал его всерьез. Ему были чужды восторги некоторых его товарищей, обожавших Волошина. Критический склад мышления придавал его суждениям отталкивающий оттенок. Ни разу не перешагнувший черту основных владений Лезгинцева, он в то же время выдвигал теорию о специфичности нового типа офицера атомного века. Взлелеянные им принципы поведения мстили ему. Кисловский чувствовал себя одиноким. Поставленная цель стать командиром атомного ракетоносца, как казалось Кисловскому, требовала многих жертв. Приходилось отрешаться от земных забот, не связывать себя семьей, стараться попасть в длительное плавание, зарекомендовать себя профессионально. Он учился у Волошина, брал от него все, что казалось ему полезным, и опять-таки с единственной подспудной целью превзойти его. Поэтому он тренировал свою волю, перенимал внешние приемы поведения Волошина: выражение лица, манеру держаться, тембр голоса, командирскую безапелляционность приказа.
Однажды, еще на курсе к полюсу, Кисловский будто случайно забрел к Ушакову и, помедлив с уходом, заговорил с ним о профессии журналиста. Его больше всего интересовали способы продвижения рукописи, значение знакомств, «групповая порука цеховиков». Его не оставляло предвзятое, пренебрежительное мнение о людях свободной профессии. В оценках стойко держалась одна мысль, хотя он напрямик ее и не выражал: «Мы можем стать журналистами, а вот попробуйте вы отстоять командирскую вахту». Он признавал влияние литературы и искусства на нравственное совершенствование общества, вернее, на упорядочение взглядов. Однако требовал от «учителей жизни», чтобы они были выше учеников, примернее и несравненно толковее, иначе миссия провалится. К поучениям нельзя привлекать каноников, знатоков затверженных истин, а только тех, кто сумеет не пригладить, а взбодрить, не причесать, а взъерошить, а потом уже применить пусть даже стальную щетку для слишком непокорных кудрей.
— Учтите, — Кисловский держался самоуверенно, пытаясь позой подчеркнуть свою независимость, — наш современник оборудован расчетливым, электронным мозгом, его не запугать и не изумить. Калейдоскоп событий заставил его шарики вращаться вдвое или впятеро быстрее, чем у предшественников. Наши отцы боялись тележного скрипа и оседлали технику Черепанова, Уайта, Жуковского, а мы движемся взрывами, прыжками до космоса. Нам дали такое в руки, что мы уже и мозгу своему не доверяем. А если говорить о духовных ценностях, накопленных прошлым, многое мы, я имею в виду самого себя, еще не взяли на вооружение. «Юность Максима» для старшего поколения — оружие, для меня — пройденный этап, история, «Братья Карамазовы» меня совершенно не трогают, а Смердяков невероятно наивен. Это персонажи мануфактурного века, от них пахнет кадилом, ассигнациями, аршином и репейным маслом. Чехова я уважаю, а его герои вызывают у меня тоску и раздражение. У Горького мне по душе один Павел Власов. Среди нас есть тоже скользкие, — откровенно признался Кисловский, — копни поглубже иного из нас — ой-ой, не родник, товарищ капитан третьего ранга! Это я с вами болтаю, а другие отделываются междометиями. Они христосиками возле вас ходят, хотят предстать в одной плоскости… — Кисловский хрипловато засмеялся, скрестил на груди тонкие, длинные руки, поиграл всеми пальцами. — Заставляйте их вот так шевелиться, чтобы всеми цветами заиграли, со всех бочков, обнаружите кое-где пятнышки…
— Не обедняйте людей, товарищ Кисловский. Отвечайте только за себя. Ведь вы тоже манерничаете. Вы ж наверняка другой. Не мог же ошибиться в вас Волошин? Или вы умеете скрывать себя от него?
Удар был нанесен в самое чувствительное место. Кисловский подскочил, с него будто ветром сдуло всю заносчивость, и лицо сразу потеряло надменность.
— Обманщиком я никогда не был! — Его голос сорвался, и, не сразу овладев собой, Кисловский долго еще барахтался под беспощадным огнем своего собеседника. Когда в разговоре упомянули Лезгинцева, Кисловский обвинил его в том, что он распустил свою жену, превратился в Петрушку.
— Никто нас не убедит, что фанатичная преданность атомной энергетике заменяет ему все вкусовые ощущения жизни! Современная техника, как и современная женщина, презирает рабов. У этих двух дам зловещий глаз и свирепые зубы. Не знаю, пусть Хомяков скажет, сколько рентген способны нарушить мои функции, но Лезгинцев… — Кисловский не договорил. На пороге появился Лезгинцев, и беседа была прервана надолго.