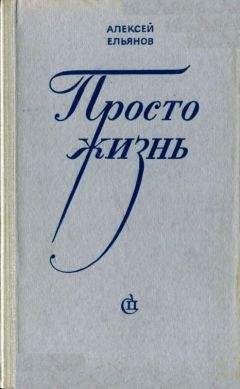Повернул Петр обратно, поближе к автобусу.
Увидел — бежит навстречу вислоухая Нелька. Пасть раскрыта, язык на сторону, а глаза озабоченные, настороженные, — почуяла Петра, глянула разок и даже хвостом не качнула. Некогда, мол, занята. Пока, привет.
Набрал Петр сучков, нашел даже старый, сухой комель сосны. И невдалеке от автобуса на месте старого кострища разжег новый костер. И в это время — рожок. Зазывной, усталый. Конец охоте. Перерыв.
Стали охотники собираться помаленьку, потихоньку на поляну, будто бы нехотя из лесу выходить. Пришел Витя с красным своим козырьком. Не выстрелил ни разу и зайца не видел. Но собакой доволен. Пришел Миша в плаще и Матвеич в шлеме. Спокойный, сдержанный, прислонил ружье к дереву, сказал:
— Это разве охота! Вот в Сибири охота — да.
Пришел еще один охотник, толстый, грузный мужчина в сапогах-ботфортах, в камилавочке на лысой голове, — как знаменитый Тартарен из Тараскона, хвастливый охотник на львов. Ружье положил на землю, присел к костру:
— А я видел зайчишку. Хотел его поддеть, да не с руки было. Ну, думаю, там кто-нибудь за бугром его прихватит. Нет, молчок. А жаль. Я бы его осадил…
— Сухо. Не жируется заяц, — сказал Матвеич.
Саня пришел последним. Тоже пустой. На затылке вязаная шапочка едва держится.
— Ну что, мастера? Подкрепимся?
Достали рюкзаки, расстелили газеты невдалеке от костра, который развел Петр, разложили кто что: колбаса, лук, чеснок, яйца, хлеб, булка, фаршированный перец, картошка в мундире. Пиво и «маленькие» водочки. И стопки, граненые «стопари» на сто граммов.
Выпили все сразу. Пили смело, свободно, в охотку. А ели сдержанно — «что мы, обжоры, что ли», — каждый соблюдал достоинство, а может, просто был угрюм, раздосадован, мол, не было охоты, не заслужили мы этого пира. И разговор был вялым. Поговорили насчет собак, про их ум, верность да ласку, вспомнили разные случаи. Псы будто поняли, что говорят про них, подбежали к костру. Сели рядышком. Смотрят жадно, облизываются, а кормить их пока нельзя. Но Миша все же не выдержал, бросил своему колбасы, а потом еще поднес бутерброд на газетке. Кобель начал слизывать масло.
— Э, так не пойдет, — сказал Миша и разломал хлеб на куски.
Пес их съел старательно, аккуратно, он во всем подражал хозяину.
— Избалованный, — сказал Виктор.
— Есть маленько, — ласково согласился Михаил. — Избалуешь тут, когда на охоту раз в год по обещанию.
— А чего ж так? — спросил Виктор.
— Так сам знаешь, какая охота с этой жизнью. Не барин. Детишек надо одеть, обуть не хуже других. Вот и крутишься с понедельника до понедельника.
— А куда же ты субботы с воскресеньями деваешь? — опять спросил Саня.
— Куда-куда! Известно куда! Баба себе забирает. У нас хозяйство как-никак.
— Ох уж это мне хозяйство, — вдруг рассердился толстый в камилавочке. — На складе вертишься с утра до вечера с этой всякой ерундой. Домой придешь — снова гвозди, снова лопаты, снова только поворачивайся. Что за жизнь пошла? Ни на охоту толком не сходишь, ни на рыбалку. Куда спешим, чего толкаемся из угла в угол, черт его знает. Хоть бы какое богатство добывали, а то так, тьфу.
— Хорошо живут в Сибири, основательно, — вздохнул Матвеич.
— А мне без охоты жизнь не в жизнь, — сказал Саня. — Я хоть что разбросаю, а пойду. Я так жене и сказал. Буду ишачить сколько надо, хоть сутками, а пришел сезон — отдай, не греши. А без охоты мне жизнь не в жизнь. Спячу. Всех покусаю. Р-р-р, гав! И нет человека.
Саня встал на четвереньки и зарычал. Получилось смешно и правдоподобно. Посоветовали Сане самому побегать за каким-нибудь зайцем.
— Нельзя, — сказал Саня. — Пусть еще поживут маленько. — И закричал, заругался на свою Нельку: — У-у, дармоедиха!
Нелька отбежала, поджав хвост. Встала под старой елью и долго-долго, беззащитно и печально смотрела на всю компанию.
— Настоящая баба, — сказал Саня. — Умеет прикидываться, хитрая. За ласку душу продаст хоть кому.
— Не скажи, — пробасил Матвеич, — собака от бабы отличается многими качествами в лучшую сторону.
— В какую же это? — поинтересовался Миша.
— А вот в какую: баба приласкается, прикинется мягкой и робкой, а сама ждет, когда ты зазеваешься, чтобы сцапать тебя да на цепь посадить.
— Так-то оно так, — махнул рукой толстяк в камилавочке. — Да уж по правде сказать, мы тоже хороши. Обленились, как сурки. Мышей не ловим. Все на бабе, все хозяйство на ей.
— Не скажи, не скажи, — разгорячился Саня. — Я верчусь с утра до вечера. А все равно под каблуком. Такая уж у них порода. Это не то что вон где-нибудь на Кавказе: баба все сделала, стол накрыла и в угол… А тут мы им волю дали…
— Тоже мне, джигит, — усмехнулся Матвеич. — Жена тебе сейчас, поди, портки стирает, а ты тут бутылочку давишь.
— А что я, не имею права на отдых, что ли? — взъерепенился Саня и встал, поправил патронташ на поясе, взял ружье, зарядил его, подбросил бутылочку.
— Не сдавать же, — крикнул он, и бабахнул выстрел. Бутылка вдребезги.
— Ничего, — сказал Саня. — Пока глаз в порядке. Ну-ка, Витек, подкинь мне еще…
«Ну, мужичье, ну, дети. Убежали от всех своих забот ради баловства, — подумал Петр. — Неужели так всегда было, и в старину, при барской охоте? И при царе Горохе… Или вон при Алексее Михайловиче, великом любителе звероловства, когда выезжали на соколиную да гончую забаву до двух тысяч беглецов-бездельников. С великой важностью направлялись они в леса потешить душу травлей зверья да стрельбой… Тут мы хороши, раскованы, непринужденны, мы размягчаемся на природе, а там, в каменных лесах да норах, становимся бесчувственными зверями…»
— На-ка, жахни, — сказал Петру Виктор и протянул ружье. Петр взял его, холодное, тяжелое. Вскинул к плечу и сразу почувствовал — в руках смерть. Прицелился в сучок дерева. Бах! Плечо оттолкнуло.
— Не стрелял и не буду больше, — сердито сказал Петр, отдавая ружье.
— Надо, чтоб сучок свалился, а не так, — вздохнул Саня.
Но все простили Петру — в первый раз, чего уж там.
— Мой друг не стрелок, а ученый, — и хвастал, и оправдывал его Саня. — Был работягой, а теперь вот университет закончил, дурью мается, — шутливо добавил он и захохотал. — А ведь я его чуть было не сшиб насмерть. Идет, задумался, и под колеса.
— Ученые, они такие, рассеянные, — тоже весело заметил толстяк.
Петр улыбался вместе с другими, а сам думал, что было бы совсем не до смеху, если бы еще один миг, один шаг… Вся эта красота леса, этот пир, эта охота и болтовня у костра — всему конец. Миг жизни и миг смерти — на волоске, на мушке, на пальце, сжимающем курок. А главное, быть может, в том, как чувствует человек ценность своей и чужой жизни: свято ли? Один и гусеницу заметит, не раздавит, а другому все трын-трава… И вдруг по-настоящему страшно стало Петру: «А как же потом смогли бы жить они… Даниил и Анюта?!.»
Санин кобель боялся стрельбы. Он залез под машину и прижался к земле. Нейк сидел около сосны, ждал подачки. Нелька бегала вокруг них, лизала руки, виляла хвостом. Кобель Матвеича смотрел на хозяина пронзительно, преданно, нежно.
Петр сказал:
— Собаки теперь так очеловечены, что можно сказать, мы особачились.
Шутку приняли не все: «Уж ты и сказанул…»
— А все-таки мой заяц бегает где-то рядом, — сказал Саня и зычно затрубил в рог. Охота опять началась.
Собак погнали на другую сторону дороги. Лес там оказался хмурым, с полями жухлого папоротника, с топким мхом, широкими елями.
Виктор и Петр снова остались вместе. И Нейк, собака Виктора, оказалась рядом. Она потеряла какой-то след, и теперь ей намного лучше, привычнее и надежнее было с людьми. Петр это видел. Кобель подбегал то к Петру, то к Виктору, помахивал хвостом, стараясь на бегу задеть, коснуться людей ласковыми длинными ушами или своим палевым боком. Петр и Виктор не горевали, что собака не ищет зайцев, — радовались, что она рядом.
«Ого-го-го — оля-ля-ля!» — разнеслось по лесу. И рожок затрубил.
— Это Саня. Охотник азартный. Пока не убьет, не успокоится.
Петр перевел взгляд с ветки на ветку, со ствола на ствол и — небо, и вот уже он будто не в лесу, а в небе, и не в небе, а в самом себе — в непролазной чащобе вопросов… «Я вроде бы вижу и не вижу, вроде бы слышу и не слышу. Что-то с чем-то соединяю, кого-то о чем-то спрашиваю, хочу понять… знаю, что все это буду помнить. Буду думать про это… и силиться понять. А иначе все бессмысленно, а этого не должно быть. Все потом припомнится: вчерашний вечер, Саня, закат и раннее утро, и горящие березы, и угрюмый еловый лес, и поляны с круговой обороной, моя жизнь, жизнь всех людей, птиц, — все, все когда-нибудь соединится».
— Ты чего? — удивленно спросил Виктор.
— Так, ничего.
— Я думал, ты к зайцам прислушиваешься. Я говорю, что работать люблю.