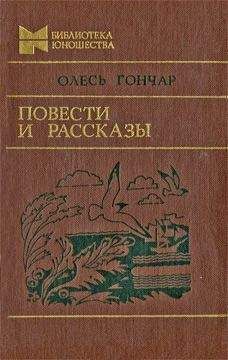— Вы тоже свое дело делаете.
— Не говорите, Мария. Мне ведь еще никого не приходилось спасать.
— Рыбаки наши от болезней умирать не любят, — весело бросил из кухни один из обедавших там мотористов. — У рыбака такая доля: или живет до ста лет, или совсем с моря не возвращается!
А Ксана, понизив голос, продолжала:
— Скажите, а у вас тут бывают случаи, чтобы зимой льдину с людьми уносило в море?
— В прошлом году было, но все кончилось благополучно: летчик на следующий же день обнаружил, и рыбаков быстро сняли.
— Вы не подумайте, Мария, что я просто так жадна к подвигу, из одного лишь честолюбия, — заговорила немного погодя Ксана, словно оправдываясь перед Марией. — Разве не естественно мечтать о подвиге в наше героическое время? Вот и брат ваш сейчас где-то в полярной ночи над айсбергами, торосами. Разве это не привлекательно? Не ради себя, не ради только своей славы, а просто иногда хочется до конца испробовать свои силы, свое умение, выдержку! Вовик сегодня сказал, что я держалась на море чудесно, хоть качало нас, Мария, ой-ой-ой как!
Ксана вдруг мелко, как от щекотки, засмеялась, а Мария стала прислушиваться к разговору на кухне: мотористы о чем-то громко заспорили там с матерью.
— Будь я на вашем месте, Филипповна, я ему не то что меду, травы морской не дал бы! — возбужденно говорил Грицко. И Мария догадалась, что речь идет о Вовике. — Браконьером был, браконьером и остался!
— В другой раз его надо в три шеи гнать отсюда! — горячо поддержал его Паша.
Ксана, притихнув, тоже стала прислушиваться к разговору на кухне.
— Если б он только по птицам был браконьером, — донесся оттуда рассудительный, сердитый голос Демы. — А то он и с людьми такой же: во всей своей жизни браконьер, во всех своих чувствах…
Ксана вдруг поднялась с места, растерянно взглянула на Марию.
— Как это можно быть браконьером в жизни?
Мария густо покраснела, даже слезы заблестели у нее на глазах.
XII
К вечеру дождь перестал, но резко похолодало. Ветер крепчал. С первыми сумерками мотористы зажгли маяк, и Дема зашел сообщить об этом Марии.
— Маяк зажжен, все в порядке.
— Кто несет вахту?
— Паша.
— Скажи ему, пусть оденется потеплее, а то еще и его прохватит… Очень холодно?
— Крупа пролетает.
— Этого еще не хватало… Ладно, иди.
Дема вышел, и девушки, оставшись вдвоем в теплой комнате, притихли, притаились, прислушиваясь к разгулявшейся за окном непогоде. Море шумело все сильней и сильней.
После дневного разговора Ксана чем-то стала меньше нравиться Марии — она представляла ее себе не совсем такою. Что Ксана рвется к подвигу, это, конечно, хорошо, но не слишком ли она заботится при этом о своей собственной персоне? Вот Рая-толстушка, что пошла после десятилетки в карьеры, не считает это подвигом — ей это и в голову не приходит… День за днем добывает со своими подружками ракушечник для страны, делает свое дело скромно, без шума, как и все другие… А у Ксаны получается так, будто ищет она подвига ради подвига и, кажется, была бы даже не прочь, чтобы рыбаков почаще уносило на льдинах в море, лишь бы только она могла потом спасать их, обмороженных, истощенных от голода…
В комнате сгущались сумерки.
— Может, вам лампу зажечь? — спросила из кухни мать.
— Пока не нужно, — ответила Ксана за обеих. — Я люблю иногда посидеть вот так, в сумерках, — тихо призналась она, прислушиваясь, как ветер грохочет железом на крыше. — Какие у вас тут ветры, Мария… Ужас!
— Вы боитесь, что не попадете сегодня на материк?
— Я не за себя… Я бы могла и у вас заночевать.
Мария поняла ее. «Не за себя, а за него, за Вовика». Это было совершенно естественно. Мария и сама была сейчас мыслями с ним.
— Не бойтесь, Ксана. Море вовсе не такое страшное, как кажется в сумерках.
— Ревет вон как!
— Нет, я по шуму волн слышу: всего несколько баллов… В такой шторм суда свободно пристают.
— Но ведь ночь наступает!
— Маяк работает… Он пристанет.
И, сдерживая волнение, спросила изменившимся, словно не своим голосом:
— Скажите, Ксана… Вы давно его знаете?
— Кого?
— Вовика.
— Не так давно… с лета, когда приехала на рыбозавод. Но только он мне, Мария… очень дорог. Понимаете: о-чень дорог! — И, понизив голос, доверчиво добавила: — Знаете, он ведь мой… жених.
— Ваш?
— Да. Но пока все это между нами. Я вам уж так, Мария, по дружбе… В субботу у нас вечеринка, радиола, — возможно, там мы уж официально объявим о нашей свадьбе.
Мария едва слышно застонала.
— Что с вами? Вам хуже? — обеспокоенно склонилась над ней Ксана. Она, видимо, и мысли не допускала, что своим признанием поразила Марию в самое сердце. Уж очень разными, далекими друг от друга казались Ксане Вовик и эта обыкновенная девушка с маяка, чтобы можно было к ней ревновать.
— Может, вам лучше уснуть, Мария?
— Нет, это так что-то… А скажите… Нет, странно об этом даже спрашивать… Он вас… любит? Хотя что я говорю!
— О, он такой милый! Правда, немного легкомысленный — ему, например, ничего не стоит взять ночью контрабандой заводскую яхту, для того чтобы покатать меня по морю, но все это я отношу за счет воспитания: он ведь в семье единственный сын! Но если его держать в руках, а я это сумею, — усмехнулась Ксана, — то Вовик, по-моему, далеко пойдет! У него есть смелость, размах, настоящая такая хватка в жизни!
Мария тяжело дышала.
— Суббота… это послезавтра?
— Думаете, не успеем? У нас уже все готово. Вовик, он, знаете, все со дна морского достанет, у него везде, как он выражается, блат.
Боцманша внесла зажженную лампу, пригласила доктора поужинать.
— Ешьте, а то остынет.
Ксана отказалась, и боцманша вышла на кухню недовольная.
Шум моря за окном нарастал. Мария отвернулась к стене, притворившись, что дремлет, а на самом деле напряженно думала о Вовике. Теперь ей все было ясно. Вспомнила свое первое свидание с ним в степи и танцы, блуждающую при лунном свете яхту… Так верила, так чистосердечно открылась ему, а для него, видно, все это было только пустой забавой. Зачем же было тревожить, так безжалостно ранить ей душу?
Не простуда — горькая боль обиды душила теперь Марию, горячим клубком застряла в горле. Незнакомое до сих пор, мстительное, дикое чувство остро поднималось в ней, и руки под одеялом сами собой сжимались в кулачки… Если б он был сейчас здесь! В ярости кинулась бы на него, глаза его лживые выцарапала бы, сама не знает, что бы сделала ему! Ласковыми словами обольщал, сияющими улыбками улыбался ей, и все чтобы потом вот так бессердечно пренебречь ею… Так легко растоптать ее чистые девичьи надежды…
На врача Мария теперь не могла смотреть. Слышала, как та, нетерпеливо поскрипывая туфельками, ходит по комнате, припадает к окну, высматривает… Пускай бы он не вернулся к тебе на эту твою вечеринку! Пусть бы проглотило его море, пусть исчез бы в волнах бесследно — ни тебе, ни мне! Иди бросайся тогда ему навстречу, в объятия ночной бушующей стихии, попробуй-ка его там спасти, со своей моребоязнью. Будешь иметь тогда полную возможность проверить свою силу воли, удовлетворить алчную жажду подвига!
От обиды, от жгучей боли все в Марии горело, туманилась, как в бреду, голова. Черными проклятиями кляла она ненавистного капитана, уткнувшись в подушку, задыхалась от собственного бессилия, чувствуя, что ни перед чем сейчас не остановилась бы ее обезумевшая от горя душа. Наверное, если бы могла отсюда достать до вышки, сама загасила бы перед ним огонь маяка, чтобы ослеп он там, этот обманщик, чтобы в щепки разнесло его судно и его самого.
Но когда сквозь шум моря внезапно донесся до ее слуха едва слышный гудок, Мария сразу встрепенулась, посветлела, будто темная волна гнева мгновенно отхлынула от ее сердца: такой гудок мог подать и «Боцман Лелека».
— Мария, вы слышите? — испуганно обернулась к ней от окна Ксана. — Как будто прогудело где-то вдали…
Еще за минуту до этого испуг соперницы только порадовал бы Марию, но сейчас она промолчала, втайне разделяя тревогу Ксаны. Почти с горечью Мария вдруг поняла, что далекий глухой гудок снова взволновал ее, как волновал и прежде, что под всеми обидами другое чувство живет в ней с неугасающей силой.
Рывком открылась дверь, растерянный Дема вырос на пороге.
— Мария… ты не припомнишь, на какую погоду поставлен регулятор?
— На тепло, конечно… А что?
— Было на тепло, а теперь, видишь, похолодало…
Дема что-то явно не договаривал. Мария поднялась на локте, впилась в парня глазами.
— Говори!
— Да видишь ли… — Дема сокрушенно махнул зажатым в кулаке гаечным ключом, — регулятор заело.
Мария лучше, чем кто-нибудь другой, понимала, что это значит для маяка, но еще сама не хотела себе верить… В эту минуту Ксана пронзительно закричала у окна: