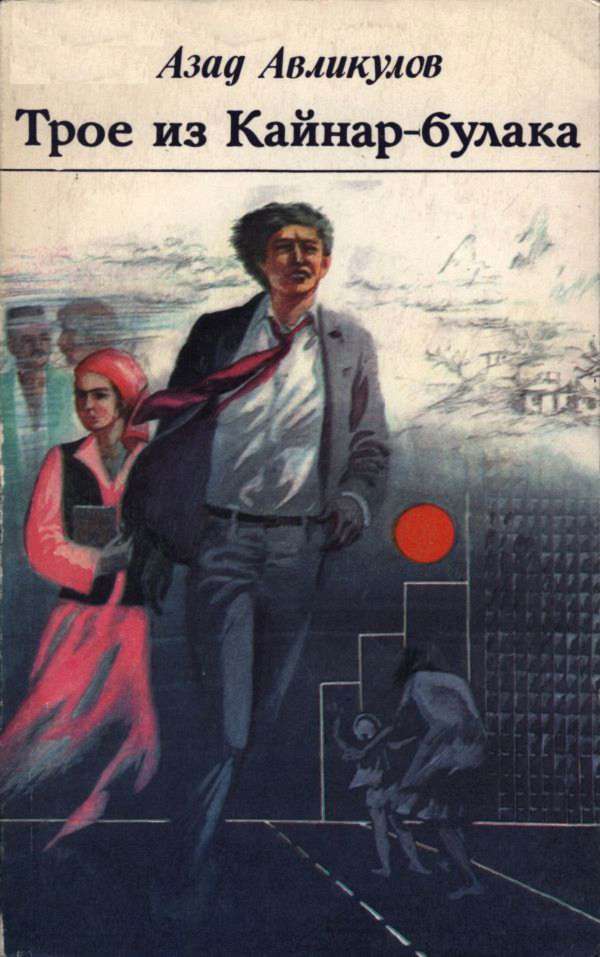авантюру, Артык накопил значительную сумму.
Отправляясь с десятитысячным войском в поход против Советов, Ибрагимбек хотел взять с собой и Артыка, но эмир, послушный воле своей жены, которая поощряла отношения дочери со слугой мужа, не отпустил его. Когда же в Кабул пришла весть о разгроме войск бека и гибели его самого, в доме воцарился траур. По шариату жена обязана соблюдать его в течение целого года. Но терпенья жены бека хватило только на три дня. На четвертый она пришла к нему, и тут Артык подумал, что даже под траурным синим платьем его госпожи жива неукротимая и все сжигающая страсть. С той поры связь их стала почти открытой, слуги, во всяком случае, знали о ней…
Неверие в успех привело всех выходцев из Средней Азии к мысли об объединении сил. Так возник Туркестанский комитет. Артык встречался с людьми из этого комитета, а после гибели Ибрагимбека вступил в него. Бывая на встречах туркестанцев, он понял, что за этой организацией стоят Англия, а с недавних пор и Германия, которая все более вытесняет первую и ставит интересы комитета на службу себе.
— Единый фронт всех выходцев из Средней Азии, — слышал Артык часто от представителей комитета, — милосердие аллаха и огромная помощь, которую оказывают нам господин Гитлер, должны увенчаться успехом. Но борьба будет трудной, и потому мы должны учиться.
Они знали об Артыке, наверно, больше, чем он сам о себе. Поэтому и решили направить его в Германию на учебу. Он дал согласие и объявил об этом госпоже, которая с годами успела порядком надоесть ему, потому что все больше и больше начинала походить на свою мать, толстела, словно овца на откорме. Никакие угрозы и ее уговоры не могли заставить его отказаться от поездки, так как она была связана с клятвой, данной еще при вступлении в комитет.
Деньги, что накопил в банке, он со зла чуть было не вернул хозяйке, но затем, подумав, что у той «золота хватит на пять ее жизней», решил перевести их в берлинский банк, поскольку у него только одна жизнь. Приехав в Германию, Артык окунулся в жизнь страны, идущей к большой войне. Колонны марширующих по улицам столицы солдат, парады военной техники, факельные шествия молодежи, зараженной воинственным духом, поражали воображение Артыка своей мощью и размахом. Они пугали его и одновременно вселяли надежду на то, что перед такой силой, похожей на сель, ничто не способно устоять. Артыка сразу направили в разведшколу, и к началу второй мировой войны, когда Гитлер захватил Польшу, он уже стал опытным разведчиком, носил форму офицера войск СС.
Когда он получил приказ руководства Туркестанского комитета побывать в республиках Средней Азии и прощупать настроения ее жителей, он понял, что война не за горами. Он возлагал надежды на то, что хоть от брата сможет услышать слова недовольства Советской властью, но после его рассказа убедился, что трагедия Кайнар-булака перевернула его сознание на сто восемьдесят градусов, а последующие годы утвердили в нем мысль, что эта власть и есть то самое заветное, что дает счастье человеку. Документы археолога позволили Артыку побывать во многих местах республики, встречаться с людьми разных профессий и интеллекта. Девятьсот девяносто девять из тысячи высказывали те же мысли, что и Пулат. Лишь сынки крупных баев и служителей религии, помнившие о прежней праздной и сытой жизни, приспособившиеся к новым порядкам, спрятав далеко свои истинные думы, не скрывали ненависти к Советской власти. Правда, раскрывались они лишь после обмена паролями. И тем не менее Артыка не смущало, что народ в массе своей готов защищать Советскую власть. «Сила, — думал он, — заставит изменить свое мнение любого. Сила и страх за жизнь!..»
— Ничего интересного, — сказал он Пулату после недолгого молчания. — Банду Ибрагимбека ведь под Душанбе разгромили, сам он удрал, оставив всех нас на милость победителя. Правда, в руки большевиков я не попал, затаился в одном невзрачном кишлаке, прожил там что-то около года. Потом подался искать птицу своего счастья, а она, оказывается, не кеклик, на силок не поймаешь. Попал на Амударью, был рыбаком. Начал учиться, после ликбеза поступил на рабфак, увлекся историей. Сейчас я работаю по научной части.
— А что же вы сразу домой не вернулись, я имею в виду Кайнар-булак? — спросил Пулат.
— Слышал я о нем, правда, смутно. И потом… В том кишлаке пригрела меня вдовушка одна. Точно приворожила меня.
— И что же потом?
— Муж ее вернулся.
— Дети?
— Их нет у меня, — ответил Артык, — да и хорошо, думаю, что так. Живешь и не знаешь, что завтра с тобой случится!
— Сами, значит, не захотели?
— Жена. Она тоже ученая, не захотела обременять себя пеленками.
— А у нас, — сказал Пулат, — теперь уже точно больше не будет детей. Врачи запретили рожать Мехри.
— Что-нибудь серьезное?
— Не знаю.
— Ерунда, — сказал Артык, — женщины, как кошки, ничего с ними не случится. Просто вдолбили себе в голову чепуху и все! Пусть рожает. Раз уж нет у меня своих детей, так хоть племянников пусть будет больше!
— Главное, что честно работаете, ака…
То тут, то там начали кричать петухи. Постепенно их голоса слились, образуя что-то радостное, настраивающее на воспоминания о давно минувшем, уплывшем в туман памяти и оттого, наверное, щемящем сердце.
— Помнишь, как мы, совсем еще маленькие, — произнес Артык, — вот в такую же рань поднимались с матерью и отцом в дни уразы, ели вместе с ними и требовали шир-чай, а?
— Помню. Не ураза, а куза — кувшин! Мои дети поступают точно так же. Встанут вместе с дедом и бабкой, покушают, причем самые лакомые кусочки съедят, а потом их опять корми!
— Какая жизнь была тогда! Перед каждой уразой отец закалывал громадного барана, а мать его целиком зажаривала в масле и складывала все мясо в большой бидон. Потом каждое утро она брала несколько кусочков и подавала отцу. И этого барана нам хватало на все дни поста.
— Я видел, как вы таскали из того бидона, — сказал Пулат.
— Было такое, брат.
— А больше всего я помню руки отца, они были сильными-пресильными, как подкинут вверх, думаешь, к самому облаку улетишь.
— Да, — вздохнул Артык. — Все-таки истоки