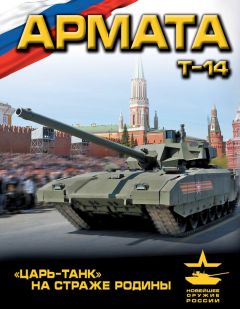Степанов хотел читать дальше, но в окно постучали. Был вечер, поздний для Дебрянска час, где условия жизни вынуждали ложиться рано. Кто бы это?
Турин, сидевший за столом, отодвинул штору, никого не увидел и вышел из комнаты.
Открыв дверь из коридора, Турин увидел неясный силуэт женщины и вскоре по каким-то почти забытым приметам узнал мать Бориса Нефеденкова.
Да, пожалуй, ее приход был, как никогда, некстати!
— Скажите, — проговорила женщина, не решаясь переступить порог высокого официального учреждения, — Миша Степанов не здесь живет?
— Здесь…
— А можно его видеть?
— Можно… — Турин отвечал без охоты, сам удивляясь, что так ведет себя с Евдокией Павловной, которая не раз угощала его чаем и обедами, когда он появлялся в доме Нефеденковых.
Через темные коридорчик и кухню он провел гостью в «залу». Когда они вошли и свет десятилинейной лампы пал на лицо Турина, Евдокия Павловна всмотрелась.
— Ваня?.. — неуверенно проговорила она.
— Ваня, — признался Турин.
— Ты кто же здесь, Ваня?..
— Секретарь райкома…
Евдокия Павловна приложила ладонь ко лбу, закрыла глаза, что-то припоминая.
— Ведь мне же, кажется, говорили… Говорили!.. Да, да! Ваня Турин — секретарь…
— Степанов здесь, — вежливо, но не без настойчивости перебил Турин, показывая на дверь в маленькую комнату.
Он словно отстранял себя от пришедшей неизвестно откуда женщины.
Евдокия Павловна, в рваном пальто, стянутом ремнем, в платке, учтиво, но холодно кивнула, как бы принимая к сведению отношение Турина. Это была сдержанная, строгая женщина. Турин знал, что в свое время она училась в Москве на каких-то курсах, хорошо играла на пианино, владела иностранными языками и слыла человеком, который на все имеет свой взгляд.
Евдокия Павловна тихо постучала в перегородку.
— Пожалуйста… — послышался голос Степанова.
Она открыла легкую тесовую дверь и стала перед Степановым. «Поздороваться, назвать Мишей? А не покажется ли и ему ненужным все, что было тогда, когда еще стоял город и мальчик Миша Степанов бегал с моим Борисом по улицам зеленого Дебрянска, ухаживал за девушками и учился в отличной школе не только наукам, но и доброте, благородству, умению ценить людей…»
— Евдокия Павловна!.. — взволнованно проговорил Степанов. — Простите, я еще не встаю…
— Лежи, лежи…
— Откуда вы?.. Где Василий Андреевич?.. Да вы садитесь, Евдокия Павловна!.. Садитесь!
Гостья молча покачала головой: не будет она садиться.
— Миша, ты веришь, что Борис — предатель? — спросила она, глядя в глаза Степанова.
— Нет, не верю, — твердо ответил Степанов.
— Спасибо, Миша… — Евдокия Павловна обессиленно откинулась на тесовую перегородку и закрыла глаза рукой.
— Нам нужно поговорить… — осторожно сказал Степанов.
— Непременно. — Она отвела руку от лица. — Подымешься — разыщи меня.
— Где, Евдокия Павловна?
Она неопределенно пожала плечами:
— Видимо, на Бережке…
— Хорошо…
— Тебе лучше?
— Значительно… Скоро встану…
— Я пойду… — Евдокия Павловна благодарно пожала руку Степанову и, быстро пройдя большую комнату, едва заметно кивнув Турину, вышла из райкома.
В комнатке, где минуту назад находилась Евдокия Павловна, еще пахло дымом от ее одежды, и Степанов думал, сколько километров прошла эта женщина, ночуя в землянках добрых людей, в сараях, а то и под открытым небом, обогреваясь теплом костра. Возвращалась домой… Вернулась — и узнала о сыне страшную весть.
— Так… — тяжело вздохнул Турин, нарушив неловкое молчание.
— Вот тебе и «так», — недовольно откликнулся Степанов.
Он охватил руками забинтованную голову и тихо простонал.
— Болит?
Степанов не ответил, смотрел в сторону. Не рана мучила его…
— Тебе сейчас нужно думать больше всего о своем здоровье, — заметил Турин.
— Это ты думай о своем здоровье… — резко оборвал его Степанов и вдруг спросил: — Можно завтра разыскать Таню Красницкую?
— Конечно…
— Пусть придет.
Турин вопросительно взглянул на товарища, но Степанов не стал ничего объяснять.
— Хорошо. Я разыщу ее.
6
Член бюро райкома одноногий Игнат Гашкин в свободное время обходил стройки Дебрянска. Немного их еще…
Больно было смотреть, как Игнат с силой и даже яростью выбрасывал костыли вперед и, перескочив добрый аршин, обрушивался на свои подпорки. Казалось, или костыли непременно сломаются, или руки не выдержат — отлетят. Казалось еще, что при такой лихости он обязательно упадет, споткнувшись о кирпичи или проеденные огнем железяки. Но Игнат неутомимо прыгал и прыгал, появляясь то на стройке жилых бараков, то на строительстве детского сада, то на Масловке, где полуразрушенную церковь приспосабливали под клуб.
Никому не казалось странным, что в городе, где живут в землянках, тратят и без того скудные рабочие силы и материалы на этот клуб. Когда-то, давным-давно, предки теперешних жителей Дебрянска ютились в курных избах и воздвигали неизъяснимой красоты церкви, башни кремля и палаты. Те, кто видел эти шедевры зодчества, не могут сказать, что они созданы из-под палки. Да, были и дикость, и нищета, и убожество, и купчие крепости на души и тела, и продажа людей, как скота. Но этот «рабочий скот» проявлял немыслимые, казалось бы, в тех условиях тягу к прекрасному и стремление выразить себя в нем. И появлялись творения из камня и дерева, которые пленяли человека через столетия и будут пленять впредь.
Явившись на стройку, Гашкин всех торопил, со многими ругался, давал советы, часто невпопад, но, уходя, всех подбадривал и не смешно шутил. Исчезал он со стройки так же быстро и внезапно, как и появлялся, внося в работу дух беспокойства и спешки.
Поздней постройки церковь на Масловке в архитектурном отношении была ничем не примечательна. В ней во время оккупации немцы держали советских военнопленных… Церковь эта видела настоящий, подлинный ад, перед которым бледнели картины библейских сказаний о муках на том свете.
Всякий раз, приближаясь к этой полуразрушенной церкви, Игнат Гашкин не мог не вспомнить, что именно здесь, где раньше попы дурачили народ, а во время гитлеровской оккупации гибли в муках люди, будет клуб. Наш, советский! Какие речи услышат здесь! Какие слова — в осознание подвига народа!
Проскочив в настежь раскрытую дверь, Игнат очутился в полумраке. Окна еще при немцах были заложены кирпичом, и сейчас его выламывали, штуку за штукой, стараясь не повредить, чтобы снова пустить в дело. Еще не все дыры и трещины в стенах были заделаны, из них дуло; заложить их, особенно наверху, было, пожалуй, самым трудным.
— Здравствуйте, товарищи! — бодро приветствовал Гашкин строителей.
Ему ответили, на минуту-другую приостановили работу: с чем это пришел райкомовский актив? И только одна девушка продолжала носить кирпичи. Согнувшись под их тяжестью, она медленно поднималась по закапанной раствором наклонной доске с набитыми на ней планками. Гашкин не сразу распознал в ней Нину Ободову.
— Трудишься? — спросил он.
— Работаю… — глухо отозвалась Нина, даже не обернувшись в сторону Гашкина. В брюках, выменянных на хлеб, в ватнике, туго перетянутом ремнем, она легко сошла бы за смазливого мальчишку, если б не платок.
— Давай, давай! Пора и поработать!
Гашкин считал, что и сейчас Нина все еще не искупила своей вины.
Никто в бригаде не относился к Нине плохо. Никто и никогда не повторил ей того, что с такой резкостью бросил тогда в райкоме Гашкин!.. Работавшие рядом с ней девчата с Бережка, пожилые мужчины, женщины хватили горя, бед и знали, как нелегко было жить в те долгие страшные месяцы. «Девчонка… Что-то было, а что-то приврали… К красивым всегда грязь прилипает больше…»
И сама Нина считала, что здесь к ней относятся очень-очень хорошо, прямо замечательно! Недаром, идя на работу из сарайчика тети Маши, она так спешила проскочить улицы и поскорее очутиться на стройке. Здесь всех она считала своими. А уж о бригадире и говорить нечего! Как родной…
Однако эта молчаливая с некоторых пор девчонка не могла забыть так легко оброненного Гашкиным словечка. Оно жгло ее душу, преследовало, отравляло жизнь. Теперь она всегда ждала, что кто-нибудь снова, нехорошо хихикнув, бросит ей это страшное слово… Не сегодня, так завтра… А если и не скажет плохого, то уж подумает наверняка!..
Нина накладывала на свои «козы» кирпичей столько же, сколько и мужчины. Один из них как-то заметил ей, что не стоит носить так много. Нина ответила:
— Ничего… Карточка дается всем одинаковая! — и потащила свою ношу.
Как иначе! Другие тоже не железные и не стальные…
Она уже не обращала внимания, как ныла по вечерам спина… Но ведь кто-нибудь должен увидеть, как она работает, увидит и скажет кому следует в райкоме, и там уж как-нибудь постараются сделать так, чтобы не висел на ней этот невидимый, пригибающий к земле ярлык… Что стоит сказать ей два добрых слова?..