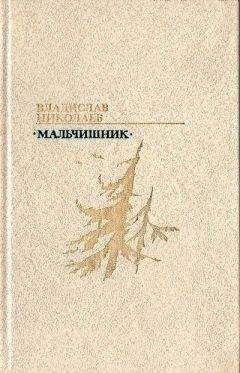— Никаких свидетельств, никакого штрафа! — злобно выкрикнул Феликс.
— Достаньте документы и приготовьте деньги.
— Ничего у нас при себе нет — ни документов, ни денег.
— Хорош-с. Хоть и не верю. В таком случае вас придется отвезти в деревню. Там — под замок, до выяснения личности.
— Послушайте! — взмолился Феликс. — Да это же произвол! Да это же… Знаете, с кем хоть имеете дело? Я — художник. Она — моя жена. Из Москвы приехали. Намучились в болотах. С голоду чуть не погибли. И все из-за того, чтобы запечатлеть ваши края на полотне. А вы с нами вон как — штраф, под замок… Сейчас сами убедитесь, что я не какой-нибудь с улицы, а художник, художник.
Феликс метнулся к клеенчатому пакету, суетливо раздергал намотанную вокруг него тесьму, и один за другим стал совать в руки Дерябина размалеванные листы.
— Вот, смотрите, смотрите! — бормотал он, вороша пакет. Потом вдруг осекся, побледнел, обмяк — вспомнил с ужасом, что на верхних листах был изображен один Сашка.
Дерябин, взволнованный удачей, тоже слегка побледнел широкими скулами. Наконец-то браконьер номер один в его руках!
Вот он во весь рост стоит в лодке, держит на весу поддетую за жабры большую белотелую рыбину… Рыбина написана резкими мазками, походит на семгу. Да это и есть семга, потому что другой такой большой рыбы в реке не водится. Вот Сашка рядом с раскрытой бочкой, у ног его в зеленой траве опять рыба, опять семга. Вот натюрморт с одной лишь рыбой — на досках лежат три вспоротые, нежно-розовые изнутри семги, а рядом в толстых жгутах, апельсиновыми дольками, такая же нежно-розовая и словно бы просвечивающая насквозь икра… Молодец художник, не хуже фотоаппарата сработал!
«Вот и конец тебе, Сашка», — устало подумал Дерябин и вдруг поймал себя на том, что не чувствует к нему никакой вражды. Да ее и не было никогда. Был долг, была уязвленная инспекторская гордость. Семгу полавливал не один Сашка. Не брезговали ею и тихий Кузьма, и другие рыбаки. Но все они таились, помалкивали в тряпочку. Лишь Сашка один бахвалился в открытую: если, мол, я семужки не добуду, то бабоньки в престольный праздник и пирожка не откушают… Добахвалился… Теперь против этих свидетельств никуда не попрешь.
— Я их должен конфисковать, — произнес он вслух.
— Не отдам! — крикнул художник.
— Я могу их и не забирать, если вы сейчас сядете со мной в лодку, поедете к Сашке и там будете делать все, что я велю.
— Никуда я с вами не поеду!
— Не горячитесь, молодой человек. Вы художник. Такой же государственный человек, как и я. И делаем мы одно с вами дело — оберегаем общество от разора и вредомыслия, вы одним способом, я — другим, несколько погрубее. Так надо ли артачиться?
Феликс, не слушая инспектора, лихорадочно соображал: что делать, как выкручиваться, как спасать этюды, без которых не будет никакой картины. Неужели придется ехать к Сашке и свидетельствовать против него? Нет, кет! После всего, что он для них сделал, предать?.. Ах, какая дурацкая история! Но Сашка все равно теперь пропал — поедет Феликс или не поедет, будет спасать эти этюды или не будет. Но если он поедет, то уж, конечно, увидит на Сашкином лице то выражение, какое ему нужно для своей картины. И не придется тогда, как Леонардо да Винчи, целый год искать новую натуру… Подленькая мысль! Но почему же подленькая? У творчества свои законы…
Колебания, смятение, растерянность, отразившиеся на лице Феликса, были замечены одновременно и Верой и Дерябиным.
— Феликс, Феликс! — вскочив с лапника, закричала Вера. — Не бойся его. Он ничего нам не сделает.
Дерябин ухватил Феликса за руку, чуть повыше локтя, и подтолкнул его с плота на берег, говоря ласково:
— Так-то лучше будет. Мы с вами делаем одно дело…
— Да куда же вы его повели? — рванулась следом Вера.
— Вы, девушка, посидите тут, — остановил ее Дерябин. — Мы его вам скоро вернем… Федор, быстро в лодку ружье, бинокль и заводи мотор.
— Феликс, понимаешь ли ты, на что они тебя толкают?
— Верочка, успокойся. — Феликс высвободил локоть из дерябинской руки. — Так, наверно, мы скорее выпутаемся из этой истории. Да и мне надо…
— Что тебе надо? — широко раскрыв глаза, изумилась Вера; Дерябин тоже покосился на него удивленно.
— Это я тебе потом объясню…
— Потом не потребуется никаких объяснений. Если сейчас сядешь в лодку, ты меня больше никогда не увидишь!
— Не дури, — по-хозяйски строго сказал Феликс. — Увяжи мои работы и жди здесь.
Моторист и Дерябин были в лодке. Едва Феликс перекинул через борт ногу, как моторка, круто взревев, рванула задом от берега. На середине реки моторист переключил ход, и лодка уже носом полетела в узкий, закрытый тенью перехват между скалами. В следующий миг она скрылась за ними.
— Подлец, подонок, — глотая слезы, кричала Вера, но ее уже никто не мог услышать.
По бревнам прокатилась волна, поднятая полуглиссером, смыла несколько этюдов, но Вера даже и не подумала их ловить. Она соскочила в воду и уперлась руками в бревна. Плот подался. Тогда она снова запрыгнула на него, схватила шест и изо всех сил стала толкаться — быстрее, быстрее, чтобы никто не догнал ее.
1
На долгожданную базу — две десятиместные палатки, приспособленные под камералку и продуктовый склад, и одна четырехместная, шатром, в которой чуть ли не два месяца прожил в полном одиночестве завхоз партии по прозвищу пан Шершень, — прикатили поздно вечером. Старожилы партии уверяли, что база расположена в необыкновенно красивом месте, но убедиться в этом Андрей вчера не смог: во-первых, было уже темно, а во-вторых, за стоверстый путь так умаялся, так о железные стенки вездехода набил бока, что на ногах не стоял, валился кулем. В общей куче разыскал свой спальник, приплелся с ним в камералку и, раздвинув раскладушку, кое-как устроился на ней и тотчас провалился в молодой бездонный сон.
Утром пробудился без следочка усталости, лишь сладко ныли и зудели ушибы. Выбежав с полотенцем через плечо к гремящей по камням речке, в немом восхищении замер на берегу.
Место, где располагаясь база, называлось Пятиречьем В окружении сопкообразных гор, походило оно на гигантское блюдо диаметром километра в три либо четыре, причем один край у этого блюда был выщерблен — пролом в горах, и к этому пролому со всех сторон сбегались почти враз пять белогривых речек: Бур-Хойла, Левая Пайера, Правая Пайера, Малая Хойла и Лагорта-Ю, образуя широкую и уже неодолимую вброд реку Танью.
Оглядывал Андрей это место и с высоты птичьего полета, пролетая над ним в середине лета по пути в партию, и речки у слияния походили оттуда на человеческую пясть с растопыренными пальцами.
Горы по краям блюда — невысокие, уютные, с округлыми боками и плоскими вершинами, на которых все, что могло разрушиться — скалы, останцы, — уже разрушилось, сровнялось и заросло седым ягелем, толокнянкой, карликовой березкой; издали ничто в их облике не напоминало о грозном Заполярье, и можно было бы, наверно, напрочь забыть о нем, ежели бы на стыках кое-где не высовывались из-за них остро-граненые вершины главного Уральского хребта, уже сейчас, в конце августа, покрытые ослепительно белым снегом. И оттого, что внизу все еще было зелено — и березка, и мхи, и лиственница, — в той далекой белизне чудилось что-то неземное, инопланетное.
Вот уж не предполагал Андрей, что Заполярье когда-нибудь полонит его и что жизнь его тут будет полна и прекрасна.
Распределение в Воркуту он воспринял как величайшее несчастье. За что? За какие грехи? Дважды, после третьего и четвертого курса, он ездил на практику в Саяны, полюбил благодатный край, и начальник партии, в которой оба раза работал, обещал организовать через министерство вызов. То ли забыл он про свое обещание, то ли в одной из многочисленных инстанций затерялся вызов, и вот результат: Андрею выпал на распределении самый неблагоприятный вариант — Воркута.
Он не опоздал, явился в экспедицию первого июля, однако, увы, накануне его партия — кто вездеходом, кто на вертолете — отбыла в горы. «Догоните! — успокоили его в экспедиции. — Не сегодня-завтра туда снова полетит вертолет». А покуда велели связаться с инженером по авиации Морисом Дицманом, дни и ночи проводившим в аэропорту.
В замшевой куртке и модном широком галстуке, с побитой сединой бородкой артистичный Дицман объявил ему готовность номер один:
— С минуты на минуту!
Но минута растянулась в час, другой, а потом из тундры натянуло клубящуюся черную тучу, и хлынул невиданной силы ливень. Поистине, хлестало, как из трубы. Когда немножко поутихло, Морис посоветовал:
— Поезжайте на автобусе в гостиницу, снимите номер и ждите. Завтра или послезавтра погода наладится, и я за вами подскочу на пикапе.