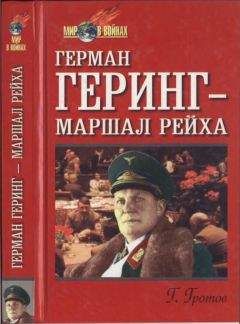— Что будем делать, Павел Иванович? — Сашка сидел перед его столом, а глядел куда-то в сторону. — Я вот думал… Может, мне сразу заявление подать? Я не люблю, когда на меня кричат. Очень не люблю. А шеф обязательно будет это делать.
Крутов растерялся. Если Григорьев настроен так, тут может произойти всякое. Осталось в мыслительной только двое, а были времена, когда там трудилось пятеро. Может, строптивый молодой человек пришел сюда для того, чтобы в своем докладе Дорошину он специально упомянул о настроениях Григорьева? Они ведь теперь такие мудрые и предусмотрительные. И еще нежные: как бы их не обидели случайно.
— Ну, вам, Александр Лукич, торопиться совсем не к чему, — Крутов встал, принес бутылку боржоми, открыл ее, поглядывая на нервное лицо Григорьева, — и еще вот что, Александр Лукич… Вам особенно бояться нечего. Вы — исполнитель, такой же, как и Петр Васильевич… А вот с меня, старого петуха, весьма возможно, полетят перья, а? Одно спасение в том, что могу в любой момент уйти на пенсию.
Крутов уверенно предполагал, что при этих словах у Григорьева мелькнула мысль, которую он, конечно, не выскажет никогда: «И шел бы… чего ждешь?» И говорил он последнюю фразу в расчете на то, что Сашка хоть чем-то выдаст себя. Однако глава мыслительной, видимо, был слишком погружен в свои собственные размышления, чтобы реагировать на приманки Павла Ивановича. Даже стакан боржоми выпил только наполовину.
— Вы не виделись сейчас с Владимиром Алексеевичем? — спросил Крутов, обуреваемый любопытством. Как же так, Рокотов, видимо, настроен на борьбу или помышляет о ней, а его ближайший сподвижник уже в панике. Ай-яй-яй… молодежь. Хоть бы у нас, стариков, учились. Мы хоть биты неоднократно и осторожны излишне, да вот только амплитуда душевных колебаний у нас меньше. — Мне кажется, он нашел любопытный выход… Правда, не столь безболезненный, как хотелось бы.
Сашка заторопился. Встал, на часы глянул, будто в кабинете ждет его до страсти срочное дело, а он вот тут заговорился совсем и забыл… Попрощался — и из кабинета почти бегом. Крутов готов был об заклад биться, что Григорьев галопом побежит к первому же телефону. Павел Иванович представил себе эту картину и бесшумно рассмеялся: зрелище было бы явно не ординарное.
Вчера он заглянул в мыслительную поздно вечером. Обитателей этой большой гулкой комнаты уже не было. Каждый из них переживал неудачу в одиночестве и не на рабочем месте. Крутов походил у чертежных столов, присел перед расчетами Рокотова, потом заглянул в бумаги Григорьева и взялся за подбородок. Заходил на пять минут, для того чтобы мнение укрепить, уже давно возникшее под влиянием разговоров Дорошина и бесконечных его обвинений в адрес Владимира Алексеевича в голом авантюризме, а вышел почти через час. Нет, не игрушками занимались «мыслители», более того: то, что уже четко вырисовывалось, виделось старому горняку Крутову как задумка любопытная…
Зазвонил телефон. Павел Иванович снял трубку и вдруг услышал могучий, какой-то свежий голос Дорошина:
— Ну, как жизнь, дорогуша? Давай-ка собирай свои бумаги и ко мне.
Утром появилось солнце. И хотя тучи были низкими по-прежнему и ветер их гнал тоже, как обычно, над самыми вершинами деревьев, но день был светлее, радостнее, чем привык видеть Эдька за эти последние две недели. Коленьков с утра засел за рацию, и голос его звучал на весь лагерь:
— Возникли разногласия… Товарищ Любимов отстаивает старый вариант, мы с Чугариной полагаем, что трассу надо менять… Расчеты все у меня… Прошу вызвать нас. Дело срочное… Нет, я не считаю нужным применять доводы до нашего разговора в вашем присутствии. Кстати, Александр Николаевич, я ведь нашел ваши вешки у ручья… Да. Целы. И фамилия покойного Мошкина тоже. Хочу сегодня на увал выбраться. Вы ведь тоже там шли в тридцать шестом?.. А вы прилетайте, вместе доберемся. Погода вроде меняется…
Дальше Эдька слушать не стал. Пошел к берегу, где возился с инструментами Любимов, собираясь в тайгу.
— Здравствуйте, Василий Прокофьевич… — сказал Эдька.
Любимов поднял голову:
— Доброе утро, юноша… Как спалось?
— Нормально. Комары только.
— Это мелочи. Самое главное в том, чтобы каждый день вам что-нибудь приносил. Обязательно. Желательно — радость и познание.
— А у вас семья есть?
— Вот те на… Вы что, думаете моей биографией интересоваться? Позвольте узнать, на какой предмет? Ежели, конечно, не секрет?
— Когда-нибудь потом скажу. Ладно?
Любимов выпрямился, потер лысину узкой морщинистой рукой:
— Ладно… Так вот о моей семье… Жена умерла в военные годы в Ленинграде. Сын отыскался уже взрослым. С детсадом его эвакуировали, потом их эшелон разбомбили… Я считал его погибшим. А он жив… Встречаемся иногда.
— А дом ваш где?
— В Ленинграде… Только я там вот уже три года не был. Квартплату высылаю, и все. Беда, понимаешь? А там ведь сидеть одному придется… Хорошо, что моя комната в коммунальной квартире. А то бы совсем худо. Вот так. Удовлетворены?
Эдька подумал, что надо бы сказать о том, что разговор вчерашний Любимова с Коленьковым слушали они с Катюшей, но потом раздумал: чего это он сразу за двоих решает? А вдруг Катюша будет против? И получится, что он просто-напросто трепач. Балаболка. Качество для мужчины унизительное.
Любимов закончил утрясать свой вещмешок, ловко завязал его горловину и хлопнул ладонями по коленям:
— Вот и все… Теперь можно и в путь, а? Как полагаете, бог техники?
— Верно… Я с удовольствием бы вас повез, а не начальника, — сказал Эдька.
Любимов удивленно глянул на него:
— Да ну? Это чего ж так? А-а-а-а… все ясно. Вы просто учли то, что со мной работает Катюша?.. Ну что ж, подождем другого раза. Катя? Где вы? Я готов…
Катюша подошла уже собранная, тоже с рюкзаком. Кивнула Эдьке:
— Здравствуй…
— Привет. Позавтракала?
— Уже давно. Спать меньше надо.
Она помахала ему рукой и пошла следом за споро вышагивающим Любимовым.
Эдька заглянул к теть Лиде. Она тоже была готова к выходу в тайгу. В брюках, в высоких сапогах. Просматривала какие-то бумаги. Эдька подошел к ней почти вплотную:
— Теть Лида… Я прошу прощения, конечно, это не мое дело, но вы не верьте этому… Он мне не нравится. Начальник… Вы знаете, я сразу в людях разбираюсь. А он к вам лезет, хотя и знает, что вы замужем. Если б я имел право, я б сказал ему.
Она обняла его за плечи. Серьезно глянула в глаза:
— Я верю тебе, Эдик… Только ты зря волнуешься… Я очень люблю дядю Игоря… И ты все очень правильно сказал Виктору Андреевичу. Все до последнего слова. Ну, что еще тебя тревожит?
— Вы… красивая.
Она рассмеялась:
— Да ты что, Эдик?.. Это уж ты зря. Просто меня хочешь немного развеселить, да?
— Честно. Я понимаю, почему этот… на вас так смотрит. Он не дурак.
Она немного помрачнела. Потом сказала строго и как-то просительно:
— Знаешь, мне неприятно, когда ты говоришь так о человеке, который очень хорошо к тебе относится.
Просто мысль такая все время вертится, что ты говоришь об этом в его отсутствие.
Эдька вскочил:
— Тогда я сейчас пойду и скажу ему все это в глаза. Если хотите, при вас?
Она его обняла за плечи:
— Я знаю, что ты настоящий Рокотов… Такой же, как твой отец и дядя. Но давай с тобой договоримся: больше у нас этих разговоров не будет. Ладно?
Он кивнул. Лицо его было сумрачным, и Лида поняла, что обидела племянника. Он стоял перед ней: худенький, с большими черными глазами на узком рокотовском лице. Волосы растрепаны ветром. Мальчишка… разве дашь ему на вид двадцать один? Нет… Шестнадцать, не больше. И характер фамильный: неукротимый, резкий, прямой. Можно сломать, но не согнуть. Эх ты, искатель… Только что ты ищешь, мальчишка? И что найдешь?
— Иди! — сказала она. — Сейчас ты поедешь с Виктором Андреевичем. Наверное, он уже тебя ищет. Ну, дай я тебя поцелую в лоб…
Эдька хмуро шагнул вперед, подставил щеку. Губы у теть Лиды были сухие и шершавые. Он никогда не видел ее с помадой. И это всегда его покоряло в ней, потому что она не хотела казаться лучше, чем была на самом деле… Она, наверное, забыла, как когда-то в детстве, ему было тогда лет шесть, он сказал ей:
— А можно, я, когда вырасту, на тебе женюсь?
Она засмеялась и пояснила ему, что его невеста сейчас учится ходить и ей еще предстоит долго расти. Это его огорчило тогда, а взрослые смеялись. И влюбленность эта сохранилась надолго. Наверное, потому, что теть Лида вынянчила его в свое время и осталась в памяти наравне с матерью. Потом, когда подрос, он доверял ей свои тайны и она не раз ходила на школьные вечера, чтобы поглядеть на девчонок, которые ему нравились. Он ей верил и тем более не мог сейчас понять ее заступничества за Коленькова.