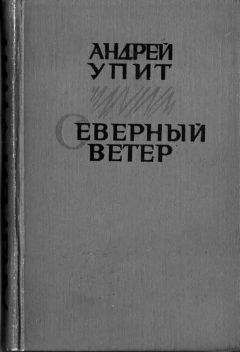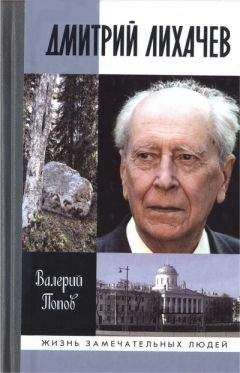Но хозяин, точно догадываясь о намерениях Брамана, только потряс бородой и еще раз кашлянул. Старший батрак подмигнул остальным и шепнул:
— Взял бы косу, малость бы жирок порастряс.
Да разве он может? — усмехнулся Галынь. — У него сердце больное.
У него все болит. А кто за мое сердце беспокоится? Такой же вот был и старик в Яункалачах. Пришел на покос, — солнце жжет, как печь в овине, а он в полушубке, ходит и ворчит: «Сволочи этакие, разве за утро столько надо скосить. Простокваши больше выхлебаете, чем пользы от вас». — «На язык-то вы горазды, — говорю ему, — а нет чтобы показать пример, с косой впереди всех». — «Ах ты, молокосос, думаешь, я в своей жизни не косил?» — «Чего там думать, показать не мешало бы!» Под него точно огонь подбросили. Сплюнул, скинул полушубок и пошел. Ну, косить умеет, почему бы и нет, это не книгу читать. Детина высоченный, костлявый, вроде моего вороного: прокос и у меня не узкий, а он ради похвальбы хватил раза в полтора шире. Дошел один ряд и бросил косу: «Вот как надо косить!» — «Один ряд, — говорю я, — это и хозяйка языком слижет. А мы здесь часов с трех утра и до обеда будем надсаживаться, вот в чем разница». Стыдно ему идти на попятный, попробовал держаться с нами вровень. А я за ним по пятам, не даю остановиться, дух перевести. У меня, понятно, у самого спина давно мокрая, на ладонях волдыри вздулись. Ну, а наш старик словно выкупался, он и так горбатый, а тут нос чуть не до колен достает. Выругался и, сердитый как черт, с руганью поплелся домой. Дома сразу запахло сердечной настойкой, а вечером старуха пришла к моей матери за пузырьком скипидара: «У старика на пояснице, — говорит, — словно каравай хлеба».
На этот раз даже Браман не выдержал, расхохотался. Ванаг подозрительно повернул бороду в их сторону, однако понял, что смеются не над ним. Подошел размякший, приветливый.
— В нынешнем году не трава, а капуста. Только бы убрать до дождя.
— В низине у ручья не хуже будет, — сказал старший батрак, — да и у реки, за яблоневым садом. Этой зимой у нас лошади загарцуют. Убрать успеем, дождь пойдет только в полнолуние. А на Спилве осоку пускай и заливает, скотина ее лучше ест, когда она немного подопреет.
— А выдастся дождливый день, так за навоз примемся. — Ванаг потер ладони, точно они чесались. — Рожь тоже скоро начнем жать, а там далеко ли и до уборки раннего льна — как бы все разом не навалилось.
— Не навалится, — отозвался старший батрак, откинув назад темную прядь волос. — У нас все выйдет как по нотам.
Остальные ничуть не разделяли их восторга, Андр Осис втихомолку ощупал ладонь и даже вздохнул…
Однако не все пошло как по нотам. С прибрежного луга сено Получилось — залюбуешься, но при укладке у Мартыня Упита вышел спор с хозяином.
Чердак над клетью набили до отказа, а на поветь Бривинь в этом году складывать не разрешал. Крыша худая, проваливается — прошлой зимой сено начало перепревать и Машка стала кашлять. Не хотелось ему гноить такое добро. Мартынь уверял, что кобыла и позапрошлой зимой немного кашляла, потому что все время без дела стоит и сердце у нее обрастает жиром. Неужели хозяин хочет оставить поветь совсем пустой, чтобы скотина внизу мерзла? Хозяин все равно не соглашался. В хлеву и так тепла будет довольно, если прикрыть сверху слоем ржаной соломы. В хорошо сметанном стогу сено сохраняется лучше, чем под дырявой крышей.
Стог на прибрежном лугу у рощи сметан хорошо — Либа Лейкарт известный мастер. Состожила в виде груши — так одна она умела. И рассчитала точно, охапки лишней не осталось. На макушку стога, на концы четырех связанных крест-накрест хворостин, насадила кусок дерна, чтобы ветер не разносил сено, пока не осядет, и чтобы дождь по хворостинам стекал на землю. Когда Либа по закинутой на стог веревке соскользнула вниз, сама хозяйка пришла посмотреть и порадоваться. Спрятав руки под передник, она улыбалась и одобрительно кивала головой. Тридцать пять копен — шесть хороших возов — сложены и утоптаны так, что и капли не просочится. Низенькая, важная Либа стояла, гордо выпятив грудь, и, прищурив глаза, осматривала свое сооружение.
На берегу реки, пониже сада, сметали еще два стога, чуть побольше. Последний не успели кончить — подмочило, туча набежала так быстро, что разворошенное сено не успели даже сложить в копны. Рассерженный Бривинь ходил вокруг и ворчал — он ведь говорил, что сегодня за этот стог не надо браться. Иволга стонала второй день подряд, мухи кусали как бешеные, телята два раза прибегали домой, ветер к ночи не стих, — и младенец сказал бы, что это к дождю. Старший батрак хоть и не помнил, чтобы хозяин говорил это, но ему самому надо было догадаться, поэтому он держался поодаль и угрюмо молчал. С невыразимой злобой посмотрел он на черную тучу, которая спокойно уходила за Лемешгале, будто ей и дела не было до чудесного сена Бривиня. Послал Брамана починить изгородь у загона, Андра Осиса нарубить кольев для сушки головок льна, а сам пошел с Галынем окучивать картофель, — теперь, после дождя, в самый раз.
Напрасно поторопились скосить за два дня и весь Спилвский луг. Едва успели переворошить валы, как начался дождь, — мелкий, из набегающих тучек — побрызгает и перестанет. Погода стояла теплая, безветренная, роса не сходила ни днем, ни ночью. Следовало опасаться, как бы на рожь не напала ржавчина. Сам хозяин Бривиней ходил пасмурный; по утрам, выйдя на середину двора, так угрюмо задирал бороду вверх к медлительным облакам, как будто за ними таился его злейший враг. На молитве в воскресенье Анна Смалкайс открыла книгу песнопений на том месте, где было про крест и испытания, а Лаура впервые подтянула грубым мужским голосом, но не могла петь правильно и даже не замечала, как от напряжения на лбу появилась отцовская складка и рот безобразно кривился. Сама хозяйка поторопила Анну в церковь, — может быть, все-таки тот заметит, что в Бривинях живут не язычники, и ни к чему гноить весь огромный луг.
Но дождь моросил и всю ночь в воскресенье. В понедельник утром в Бривинях начали возить навоз. На паровом поле навоз разбрасывал Галынь — никто, кроме него, не умел раскидывать так ровно по всему полю. Все три батрачки разгребали. Маленький Андр подъезжал с полными возами и затем, стоя на пустой телеге и крутя над головой концами вожжей, — ни дать ни взять цыган, — гнал обратно. За скотиной вместо него присматривала Тале, но какой из нее пастух — хозяйка до завтрака уже раза три кричала, что овцы топчут лен. Во время обеда и вечером в комнате испольщика снова свистели розги, и детишки вопили не своим голосом, но и на другой день пастушка не стала умнее.
Старший батрак, Андр Осис и Браман выгребали навоз из хлева. Вначале они еще пересмеивались, поддразнивая и поучая друг друга. Но после обеда в хлеву слышался только стук тяжелых вил, да кто-нибудь тяжко вздыхал; Браман с проклятиями ковырялся в своем углу. Лошади почти касались мордами земли, вытягивая возы из топкой грязи у хлева.
На другой день хозяин Бривиней не показывался на дворе, даже Мартынь заходил в дом поесть с таким сердитым видом, что лучше бы на глаза ему не попадаться. Вечером Осиене, ворча, перевязала Андру палец, который опять начал кровоточить, и нащупала на ладони три водяных волдыря, величиной с крыжовник. Сам Андр, не проронив ни слова, сразу повалился на сенник: Мартынь обозвал его в хлеву неженкой, мозоли у него, дескать, от ложки, годен, мол, он только огород полоть или цевки наматывать.
В среду до заката хлев был уже чист, три батрака и Маленький Андр спустили к Дивае четыре телеги, чтобы обмыть их в большой колдобине и самим попытаться хоть чуть избавиться от вони. Большой Андр повалился на камень под вязом и даже не заметил Лауры, которая прошла в палисадник, прикрыв платочком нос — весь двор, весь воздух были насыщены таким смрадом, что дыхание перехватывало. Осиене принесла в шайке теплой воды и обмыла Андра, чтобы можно было с ним спать в одной комнате. Свой хлев они вычистили еще накануне, до обеда, сегодня Осис уже пахал — и терпеть в доме такого грязнулю больше немыслимо. Когда зажгли коптилку, Андр еще не ложился, на столе стояла нетронутой миска щей, принесенная хозяйкой, лежали полкаравая хлеба и две гречневые лепешки. Еда не шла на ум, Андр сидел, поджав губы, серый, с запавшими, потухшими глазами. Осиене пожурила его, погнала спать и укрыла одеялом, хотя в комнате было жарко, как в бане. Когда глаза у него закрылись, Осиене долго смотрела на сына, потом сложила руки и сжала их с такой силой, что пальцы хрустнули, у нее вырвался тяжелый вздох, похожий на стон. Выйдя во двор, она увидела Мартыня Упита — он еще волочил ноги, трудно было его узнать: сгорбился, почти как старый Лицис. Сел на камень под вязом — видать, и ему не до еды сегодня. У Осиене так наболело на сердце, что хотелось выместить на ком-нибудь злобу, сказать что-то едкое, грубое, задеть поглубже, — пусть будет так же больно, как ей самой. Подошла прямо к Мартыню и остановилась.