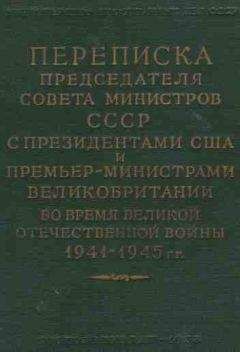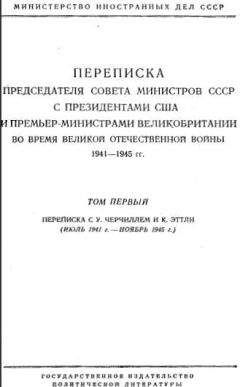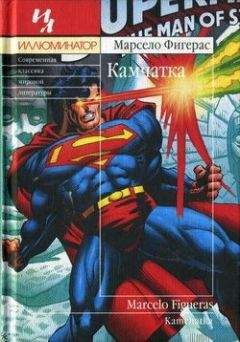Но вот снова пошли холмы, покрытые низкорослым лесом, с пятнами красных песчаных обрывов среди молодой весенней зелени. А по холмам, вздымаясь и падая, замелькали крепостная стена Нанкина, одна из самых старых и прочных стен китайских городов. Поезд вздрогнул и остановился.
Город был далеко от маленького, выбеленного известью вокзальчика, построенного совсем не в китайском стиле. Против него на рейде широкой реки стояла белая канонерка весьма древнего вида, а подальше дымил серый двухтрубный крейсер. Иностранных кораблей на реке не было.
Здесь пересадка. Все пассажиры вышли из вагонов. Большинство на рикшах потянулись в Нанкин. Едущие на север пошли к переправе. Небольшой пароходик перевез их на левый берег в городок Пукоу, грязный, ничем не примечательный. Здесь ждал такой же поезд. И снова потянулись уже приевшиеся картины болотистой Хуанхайской низменности, рисовые поля, каналы, деревушки, полные солдат маленькие станции.
«Зачем столько солдат? — подумал Клюсс. — Наверно, именно на этом оперативном направлении назревает новая вспышка войны между сверхдуцзюнами». Ночью поезд прогромыхал через мост. Капризная, зажатая дамбами Хуанхэ осталась позади.
На другой день к вечеру приехали в Тяньцзинь, опоясанный кольцом дымящих заводских труб. Пробравшись через суету вокзала, Клюсс пошел по городу пешком. Из узкого, но глубокого русла Пейхо, возвышаясь над крышами домов, торчали белые надстройки втиснутых в город океанских пароходов. На улицах, несмотря на поздний час, группы прогуливающихся американских солдат в широкополых ковбойских шляпах.
Клюсс переночевал в гостинице и утром сел на последний в этом путешествии поезд, идущий в Пекин.
81Разведя команду на судовые работы и дав указания боцману, Нифонтов прилег вздремнуть до ужина. Поездку домой пришлось отложить: сегодня, как уже не раз бывало, командир задержался на берегу. Наверно, вернется только к вечеру. Тяжела доля старшего офицера! Морской устав не предусматривает для этого должностного лица никаких норм увольнения. «Я на берег, Николай Петрович!» — все так говорят, но никогда не договаривают: «А вам сидеть на корабле до моего возвращения». Жены и дети старших офицеров считают, что их мужья и отцы так заняты, что о семье им некогда и подумать: всё служба на уме!
А между тем мысли о семье — постоянный спутник досуга старшего офицера. Конечно, не каждого, разные есть натуры, но Нифонтов был примерным семьянином и любил посидеть дома. Поиграть в лошадки с подрастающим сыном. Принимать гостей, таких же морских офицеров с их женами, за хорошо сервированным столом, за рюмкой вина.
Он уже начал засыпать, когда в дверь постучали. Вошел комиссар, видимо только что вернувшийся с берега, в пальто и шляпе.
— С Александром Ивановичем случилось небольшое несчастье, Николай Петрович. Вот прочтите, он вам записку написал.
Нифонтов прочел.
— Действительно вывих, а не перелом? Вы были в госпитале, Бронислав Казимирович?
— Я только что оттуда. Говорил с врачом. Вывих вправлен. Просвечивали рентгеном. Перелома нет, но опухоль большая. Через несколько дней она спадет, и Александр Иванович вернется на корабль. Пока нога совсем не пройдет, будет ходить с палкой.
— Понятно… Вам придется с ним поддерживать связь. Я, сами понимаете, до его возвращения съехать на берег не могу.
— Разумеется, Николай Петрович. Послезавтра я к нему поеду. Вы ему напишете записку?
— Напишу рапорт. Командирам записок не пишут, — отрезал Нифонтов.
Весело улыбнувшиь, Павловский поклонился и вышел.
За ужином все заинтересовались происшествием. Павловский скупо сообщил подробности, уверял всех, что ничего серьезного нет и что через два-три дня командир приедет на корабль.
82После ужина, увидев, что штурман пошел к себе, Павловский отправился следом:
— Я к вам на минутку, товарищ Беловеский.
— Прошу, товарищ комиссар. — Штурман сел в кресло, предоставив комиссару диван. Павловский плотно прикрыл дверь и понизил голос:
— Можете вы обещать, что то, что вы сейчас услышите, будете держать в абсолютном секрете?
— Могу, если вы верите моему обещанию, товарищ комиссар.
Павловский пропустил мимо ушей это замечание.
— Дело в том, что Александр Иванович совсем не болен. Он уехал в Пекин для свидания с Агаревым.
— Понятно. Нифонтов знает?
— Нет, он не должен об этом знать. Сейчас об этом знаем лишь мы двое.
— Чему же я обязан, товарищ комиссар, таким внезапным доверием с вашей стороны?
— Бросьте этот тон, товарищ Беловеский! Дело серьезное. Мы с вами должны договориться о совместных действиях на случай нападения.
— Вот что, товарищ комиссар. Давайте раз в жизни поговорим откровенно.
Павловский насторожился.
— Договариваться нам с вами не о чем. Оба мы служим на военном корабле и в случае нападения обязаны защищать его флаг не щадя себя. А вы предлагаете об этом «договариваться»! Неужели вам не ясно, что для всякого настоящего офицера подобное предложение оскорбительно?
Павловский был поражен такой прямолинейной постановкой вопроса. Помолчав, он ответил:
— Что ж, вы правы, приношу извинения. Очень рад, что могу до конца положиться на вас. Но, к сожалению, не все наши офицеры…
— И Нифонтову вы напрасно не верите, — перебил Беловеский.
— К Нифонтову у меня пока неопределенное отношение, товарищ Беловеский…
— Не «неопределенное», а предвзятое, товарищ комиссар, — скрывать это вы не умеете, а ваше подчеркнутое недоверие оскорбляет и возмущает его. Вот вы и добились, что старший офицер не знает об отъезде командира. Какой же он тогда ему заместитель?
— Мне известно, что он имеет связи с белогвардейцами.
— Так ли? Знакомство с морскими офицерами — эмигрантами он действительно поддерживает. Многие из них служили при Колчаке. Но он не предатель и никогда им не будет. При таком отношении я бы на его месте давно подал в отставку. Он этого не делает только потому, что семья у него здесь. Кормить её надо.
Павловский нахмурился, а штурман продолжал:
— Да вы не обижайтесь. В искренности ваших революционных побуждений никто не сомневается. Но подхода к людям, и особенно к офицерам, у вас нет. Подумайте сами, ведь так?
Павловский вспомнил, что то же самое как-то сказал ему Якум. Но признать свой недостаток ему не хотелось, и он ушел от прямого ответа.
— Чтобы между нами всё было ясно, скажите мне откровенно, почему вы, участник партизанской борьбы, вдруг не в партии?
Штурман улыбнулся:
— Я, товарищ комиссар, хочу по всякому вопросу иметь свое особое и совершенно свободное мнение, а партийная дисциплина мне этого бы не позволила. Да и мою бы личную жизнь связала. А я свою личную свободу люблю больше жизни.
— Напрасно вы так думаете. Да и любовь к личной свободе — путь к анархизму и даже в лагерь контрреволюции.
— Ну, это вы через край хватили, товарищ комиссар. По ошибке контрреволюционером не сделаешься. Все они знают, чего хотят, и этого не скрывают. А вот среди присяжных революционеров, к сожалению, встречаются такие, над поступками которых приходится серьезно думать и о них своё мнение иметь.
Павловский покраснел:
— Это не меня ли вы имеете в виду?
— Нет, не вас. Кое-кого повыше. Комиссара Камчатки, например.
Павловский сразу не нашелся, что ответить. О Ларке у него также сложилось отрицательное мнение. Но обсуждать с беспартийным поступки комиссара Камчатской области он счел недопустимым и дипломатично ответил:
— Я его очень плохо знал и не доверять ему не имею права.
— Вот именно, не имеете права. А я хочу иметь это право и не понимаю, товарищ комиссар, как можно замалчивать преступное поведение Ларка в Шанхае? Это приносит вред революции.
— А почему вы думаете, что его поведение останется без последствий? Якум в Чите обязательно доложит обо всем Дальбюро и правительству Дальневосточной республики.
— Поживем — увидим, — ответил штурман со скептической улыбкой.
Наступила пауза.
— Ну ладно, товарищ комиссар. Поговорили откровенно и, кажется, друг друга поняли. Обстановка мне ясна. На меня, как и раньше, можете положиться. Корабль мы им не отдадим. О поездке командира буду молчать. И с вами ссориться не намерен. Для этого нет причин. Вот вам моя рука.
Павловский ничего не ответил, крепко пожал руку штурмана и пошел к себе. У него было какое-то смешанное чувство. С одной стороны, он был удовлетворен: за год службы на «Адмирале Завойко» они впервые обменялись со штурманом крепким рукопожатием. Но он чувствовал, что Беловеский по-прежнему остался «сам по себе» и его признает только потому, что он комиссар. К тому же штурман «заядлый беспартийный», а таким, он был уверен, полностью доверять нельзя… «А как же командир, — вдруг вспомнил он, — ведь он тоже беспартийный?»