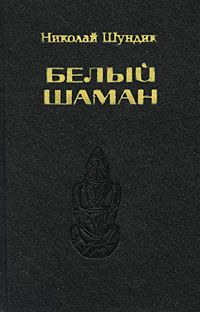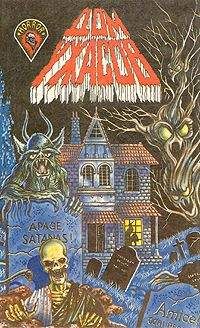Несколько дней гости из других стойбищ не появлялись. И Майна-Воопка совсем было уже успокоился, как вдруг кто-то обстрелял стадо. Была тёмная ночь, луна ныряла, как рыба, в тёмные рваные тучи. Стадо мирно паслось под присмотром молодого пастуха Татро. Несмотря на темноту, Татро увлечённо писал своё имя на снегу. Усвоил он от Омрыкая начертания ещё нескольких слов, и для него было огромной радостью вычерчивать их походной палкой, дивясь тайному смыслу каждой буквы, которые называл он для себя магическими знаками. Да, он считал себя причастным к настоящему таинству, и потому, когда разглядывал свои письмена на снегу, в круглом лице его с заиндевелым пушком под носом был восторг и ещё чуточку жути.
Мерно позванивал колокольчик на шее одного из быков, стучали о твердь стылой тундры копыта оленей, сухо потрескивали рога. Всё было обычно, кроме таинственных знаков, начертанных на снегу, которые в своём сочетании немо говорили, что тут имеется в виду именно Татро, а не кто-нибудь иной.
И вдруг откуда-то с вершины горы раздались выстрелы. Их было всего четыре или пять. И этого было достаточно, чтобы перепуганные олени бросились в разные стороны. Стадо разбилось на несколько групп, и Татро видел, как каждая из них стремительно убегала в ночь. Одну из групп в полсотни оленей он сумел остановить и успокоить. Но где, где же остальные? Кто стрелял? Как быть? Ныряла скользкой неуловимой рыбой луна, пробивая тучи, выли где-то далеко-далеко волки, и доносился едва уловимый топот копыт разрозненного стада.
Что же делать? Гнать оставшихся оленей к ярангам, оповещать людей о беде? Но пока пригонишь этих, далеко уйдут остальные. Надо немедленно поднять на ноги всех мужчин и женщин! И Татро побежал к стойбищу.
Пять суток чавчыват стойбища Майна-Воопки собирали оленей. Пойгин, взбешённый тем, что кто-то метнул чёрный аркан над головой его друга, ездил с Майна-Воопкой по тундре, стараясь обнаружить того, кого он пока без имени называл Скверным. Эттыкай уже привык к тому, что Пойгин почти не пас его оленей, и все удивлялись, почему он его терпит. А тот терпел его скрепя сердце. Да. Он с превеликим удовольствием дал бы волю своему гневу, но он был умный и хитрый человек, он умел управлять своими взволнованными чувствами, как управляет хороший наездник распалившимися в беге оленями. За поступками Пойгина он видел не только его непокорный характер, но и то, что придавало ему силу и смелость. Конечно же, ветер перемен, который дул с моря, наполнял паруса байдары этого дерзкого анкалина. Может, он сам пока меньше всего думал об этом ветре, однако байдара его мчалась именно туда, куда поворачивались главные события жизни, – и это надо учитывать. Кто знает, может, ещё наступит время, когда именно у Пойгина придётся искать защиты: «Не я ли принял тебя в свой очаг, не я ли остепенял тех, кто таил к тебе враждебность?» Ненависть ненавистью, а рассудок рассудком, нельзя его ослеплять.
А Пойгин помогал Майна-Воопке собирать стадо, и снова ему казалось, что он идёт по следам росомахи. Оленей нашли не всех. Нескольких важенок порвали волки, несколько десятков ушли в горы, наверное, прибились к диким оленям.
Однажды, глядя с горы на стадо Рырки, Пойгин сказал загадочно:
– Ты не чувствуешь запаха палёной шерсти и горелого мяса?
Майна-Воопка повёл носом, принюхиваясь:
– Чувствую.
– Я тоже чувствую. Надо спуститься в стадо Рырки. Ты же знаешь, как любит он метить своим клеймом чужих оленей. И не один он. Вести дошли… В Пильгииской тундре люди из Певека отобрали всех тайно клеймённых оленей и отдали прежним хозяевам… Ты же знаешь, кто тайно клеймит чужих оленей. Вот такие, как Рырка, в стаде которого можно легко спрятать всех до одного твоих оленей.
– Что за люди из Певека? – спросил Майпа-Воопка, жадно вглядываясь в стадо Рырки.
– Не знаю. Называют их Райсовет.
Пойгин оказался прав: Майна-Воопка обнаружил в стаде Рырки семнадцать своих оленей, на крупах которых ещё не успело зажить новое клеймо. Рырка встретил Майна-Воопку громким смехом.
– Твои, твои олени! – откровенно признался он. – Перестарались мои пастухи. Можешь отстегать любого арканом…
– А если тебя? – спросил Пойгин, играя арканом.
– Имеешь ли ты право, нищий анкалин, держать в руках аркан? Ты же и метнуть его как следует не умеешь.
Пойгин взмахнул арканом, и огромный чимнэ врылся копытами в снег, низко нагнув голову. Медленно подтаскивал Пойгин заарканенного оленя, а когда подтащил, Рырка выхватил нож, ударил чимнэ в сердце. Захрапел олень, падая на колени, а затем заваливаясь на правый бок. Пойгин смотрел, как тускнеют его глаза, и чувство вины и острой жалости мучило его.
– Забери, анкалин, этого оленя. Можешь сожрать его, мне совсем не жалко…
– Жри его сам. Я погоню с Майна-Воопкой его оленей, которых ты украл. Придёт время, и мы ещё посмотрим, сколько в твоём стаде уворованных оленей!
– Кто это «мы»?
– Жди. Узнаешь…
Когда стадо, распуганное чьими-то выстрелами, разбежалось, Омрыкай боялся, что его оленёнка настигнут волки. Но всё обошлось – Чернохвостик жив! Теперь Омрыкай наравне со взрослыми выходил в ночь караулить стадо. Кукэну, несмотря на свою старость, тоже был вместе со всеми. Правда, стадо по распоряжению Майна-Воопки на сей раз паслось возле самого стойбища.
Всех волновало одно: кто стрелял? Кукэну казалось, что это сделал Аляек.
– Ищите Аляека, как росомаху, по его вонючему следу, – напутствовал мужчин Кукэну.
Однажды утром в стойбище приехал Вапыскат и сразу же направился в ярангу Майна-Воопки. Пэпэв почувствовала, как обмерло её сердце: она и ждала появления чёрного шамана, и боялась, что это случится. О том, что Вапыскат собирался приехать, она ничего не сказала мужу: давнишняя вражда между ними всегда пугала её. Особенно теперь, когда тревога за сына не давала ей жить. Пэпэв казалось, что, находясь во вражде с её мужем, Вапыскат может быть особенно опасным, а значит, надо его задобрить. Если не может сделать это муж, то, стало быть, надо ей самой постараться. Едва Вапыскат вошёл в ярангу, как она вытащила белую шкуру, постелила у костра.
– Где муж? – спросил гость, усаживаясь основательно, как бы подчёркивая тем самым, что он отлично помнит, как несколько дней назад ему пришлось сидеть у самого входа.
– Ищет оленей. Кто-то стрелял две ночи назад по стаду.
– Стрелял, говоришь? Кто пас оленей в ту ночь?
– Татро.
– И только он один?
– Да, только он.
Чёрный шаман попыхтел трубкой, докуривая до конца, выбил её о носок торбаса, не спеша прицепил к поясу, сказал сердито:
– Знаю Татро. Молодой, глупый. Говорят, больше всех тут чертит поганые знаки на снегу. Сынок твой научил…
– Прошу, не сердись на моего Омрыкая. – Пэпэв умоляюще прижала концы кос к груди. – Мал он ещё, не знает, что делает…
– Зато отец и мать должны знать, что он делает. Знаки эти прикликают самых свирепых ивмэнтунов, способных помрачать рассудок любому человеку. У Татро в ту ночь помрачился рассудок, и ему почудились выстрелы. Это проделки Ивмэнтуна. Он оленей разогнал…
– О, горе, горе пришло к нам! – воскликнула Пэпэв, закрыв лицо руками, как это случалось с ней часто, когда ей было страшно смотреть в лик беды.
– Подлей мне горячего чаю.
Пэпэв встрепенулась, сняла с крюка чайник, висевший над костром, обожгла руку. Наполнив чашку чаем, сама подняла её с деревянной дощечки, протянула гостю. Тот отпил глоток, другой, поморгал красными веками и сказал:
– Ивмэнтун идёт по следу твоего сына, как собака за росомахой. Уж очень противный запах принёс с собой твой сын, запах пришельцев. Вот почему Ивмэнтун пришёл в ваше стадо. Взбесились от страха олени… Где твой сын? Наверное, опять чертит на снегу поганые знаки?
– Я его позову.
Чёрный шаман вскинул руку.
– Не надо. Ты сказала, что будешь послушна мне. Я попытаюсь очистить Омрыкая. Я вытравлю из него дурной запах. Надо бы дождаться пурги. Тогда Омрыкай голый, каким ты его родила, должен будет обойти вокруг яранги три раза с моими заклятиями…
Пэпэв опять закрыла лицо руками: она слишком хорошо знала, что предлагает чёрный шаман и чем может кончиться такое очищение.
– Я угадываю твои мысли, – сказал Вапыскат. От выпитого чая тело его разогрелось, и он запустил руки внутрь кухлянки, чтобы унять зуд болячек. – Да, угадываю. Ты боишься, что в сына вселится огонь простуды. Но только этот огонь и способен его очистить. Простуда пройдёт, а Ивмэнтун не пощадит, Ивмэнтун рано или поздно настигнет.
Пэпэв молчала, покачивая головой из стороны в сторону, лицо её было искажено гримасой страдания.
– Но пурги, может, придётся ждать слишком долго, – размышлял Вапыскат, не глядя на хозяйку яранги. – Да и муж твой не позволит выпустить Омрыкая голого в пургу. Он не очень чтит меня. До сих пор не может понять, что не я задушил его брата, а духи луны. Да, это они накинули на его шею невидимый аркан и вытащили из него душу. Утащили душу туда, – он ткнул пальцем вверх. – Утащили, хотя душа его и упиралась, как заарканенный олень. Вот это может случиться и с Омрыкаем.