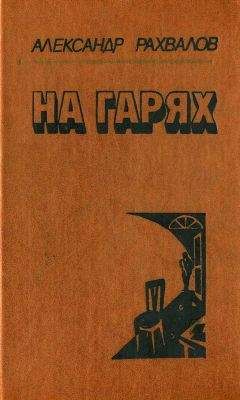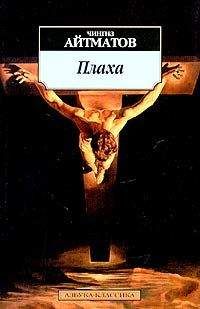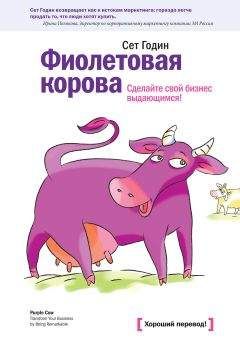— Ты прав, — отозвался Роман. — У меня тоже полнейший застой — и тела, и духа…
— Духа! — хмыкнул Котенок. — Дух — это пыль… Здесь похуже: я отлежал бока, руки, а бедные мои ножки — хоть отрубай. Не веришь?
Роман промолчал. Тогда Котенок, раскурив папиросу, задрал штанину и ткнул горящей папиросой прямо в ногу… Затрещали волосы, даже папироска, пшикнув в лопнувшей коже, погасла, но Котенок сидел и смотрел на Романа спокойными глазами.
— Видишь, боли нет, — простонал от злости он. — А без боли хана!
— Что же, совсем не больно? — подскочил на койке Роман. Он и спросил-то шепотом, как с перепугу.
— Да, совсем, — ответил Котенок. — Ощущение такое… Не только духа, но и крови, кажется, нет во мне. А тело, оно вроде как ржавеет, окисляется, зудит… Меня даже тошнит. Кажется, не выдержу — и перегрызу себе вену! Брр! — Он мотнул головой.
— Брось ты, Котяра, дурить, — попытался его утешить Роман. — Скоро вывезут на Панин бугор… Меня тоже тошнит… — признался вдруг он.
И опять навалилась тишина. Только мухи, кружа по камере, сверлили воздух… Надо было спешно зацепиться за какую-нибудь мыслишку, она спасет.
«Что же я, такой здоровый да ладный, не жил на свободе? — подумал Роман. — Ну, Котенок — урод, ему там трудно было… А мне-то чего не хватало?» На эти вопросы он натыкался после каждого разговора с Котенком. И память перебирала, перебирала…
Они косяком ходили по «общаге», стреляли мелочовку. Один из них сворачивал кулек, как продавец, и шел впереди, выговаривая пацанве: «А ну, урки, сыпь! Че, пятака даже нет?» И «урки», чтобы не связываться с пьяными, сыпали, кто сколько мог. За два часа они могли собрать полный кулечек и отправлялись в пивнуху. Там иногда приходилось «каруселить». Они выбирали «застолье» помноголюдней и вызывали разгоряченных пивком и не в меру обидчивых на «пару ласковых». Конечно, рисковали, но хмель не знал страха… Во дворе им приходилось сбиваться в «колесо», чтобы спина к спине — так они успешно отбивались от наседающих со всех сторон фрайеров…
Не об этом было противно вспоминать, о другом. После драк возле пивнушки, после «охоты» на подвыпивших мужиков, он возвращался в «общагу» и начинал колесить по комнатам девушек. Хотелось «догнаться». Приходил к одним и с кем-нибудь в паре клянчил огуречный лосьон. Девчушки отдавали. Ох, как они его смаковали! Пили из пробочки, пили «по пять грамм», пили, не признавая закуски… Теперь он не мог понять, как эта гадость лезла в глотку.
«Общага» избаловала его. В драках он почти всегда выходил победителем… Но с нежностью вспоминал только о покосе, на котором пришлось потрудиться после того как сдал документы в училище.
В конце июля пэтэушников отправили за реку, сказали — сено грести, дня на два… Тогда они быстренько перезнакомились, спали в одной палатке с девчатами… Девчата уже были — оторви да выбрось, зато парни — огородная зелень. Но Роман выглядел взрослее всех, потому на его долю выпали отчаянные девчухи, от которых отбиться было непросто. Ему понравилась одна северянка — тихая такая, с молящими глазами. Из жалости, что ли, но он выбрал ее и спал с нею рядом в палатке, даже не подумав ни разу о близости. Ее трясло, она морщилась, как от боли, прижималась к нему изо всех сил, но он, остолоп деревенский, даже подумать не мог о… бабе. После восьмого-то класса в селе не всякая девчонка решалась на поцелуй, а на другое… Потому и парни, которым не давали повода, были спокойны… Гуляли по лугам, целовались. Хорошо было на душе без пивных, без «общаги» с этим проклятым огуречником. Он не обижал ее, а она по-прежнему смотрела на него молящими, как у собаки, глазами. «Может, сирота?» — вздыхал он. Но хорошо было на душе.
Сгребли сено, метать никто не умел, потому через два дня все вернулись в училище. А через неделю ее вырвали из постели какого-то «химика»… Ни боли, ни чувства досады не испытал Роман — просто в толк не мог взять: девахе пятнадцать лет, а она живет с мужиком. Нет, такого он не мог понять.
Но все равно он с нежностью вспоминал эту северянку и помнил как пахло сено, на котором они спали. Теперь бы в палатку, к костру, к гомону тех девчонок, которым вскоре придется обшивать страну, штукатурить стены новых зданий — словом, жить по-взрослому, на свою зарплату…
В прогулочном дворике, куда их вывели перед обедом, было еще жарче и душней, чем в камере. В камере хоть от стен веяло сыростью, а здесь воздух так прокалился, что дышать нечем было. За шлакобетонной стенкой переговаривались хриплыми голосами мужики. Их все забавляло в этой жизни, как будто они радовались тому, что их посадили.
— И вот он пишет старикам, — рассказывал кто-то затертую до дыр байку. — Дорогие мама и папа! Сижу я теперь в камере, народ вокруг бойкий и коварный, говорят на непонятном языке… Обешали мне выколоть шнифт, пока правый… Как выколют этот самый шнифт, так я вам сразу же напишу — что это такое.
Во дворике расхохотались. Даже хохот и тот почему-то был отвратителен. Хотелось крикнуть: «Взрослые люди, а чем занимаетесь?»
— Сало! Сосало! — сплюнул Котенок. Он подошел к стене, задрал голову и пропел петухом: — Кукареку-у! Эй, вы слышите меня?
В оглохшем дворике продолжали хохотать.
— Эй, не слышите, волки?.. Так я вам бросаю в рожи, — кричал Котенок, — я вам бросаю, что вы петухи!
Мужики притихли. Кто-то удивился:
— Что за борзота?
— Это я, конечно, Котяра! — кричал Котенок. — И говорю вам: вы мразь старая! Таких я не уважаю!
— Ах ты!.. — поднялись мужики. — Ты что, заборзел в корягу?! Ух, соплегон!..
— Петрович, Петрович! — прокричал надзиратель сверху. Он ходил по специальному трапику, но снизу казалось — по торцу стенки. — Петрович, выводи из пятого и шестого.
— А что так быстро? — удивился Петрович.
— Они нагулялись… В камеру просятся. Прямо спасу нет.
— Врет он, шакал! — завопили мужики. — Это малолетки просятся! А не мы, слышишь, старшой?!
Но надзиратель наклонился над ними и будто сплюнул на металлическую сетку:
— Они сопляки… А ты, чего с ними связался? Вот теперь шагай в камеру, парь там вшей.
Котенок, когда услышал, как загремели запоры в шестом дворике и потащили из него мужиков, даже подпрыгнул от радости:
— Так их, старшинка! Гони их в камеру, гони!..
— Это же он подстроил, — упирались мужики. Но Петрович только бормотал:
— Ничего не знаю, ничего не знаю… С поста сообщили, с поста…
— Так их, Петрович! — орал Котенок. — А то пригрелись тут, жрут казенный хлеб да еще на прогулку просятся. Гони их в камеру! Ха-ха-ха!..
Вернулся Петрович, открыл дверь во дворик и спокойно проговорил:
— Прошу, ребятки. Хватит балдеть…
Они лежали на койках, прикрыв глаза. Соседи переговаривались между собой, будто боялись, что могут разучиться разговаривать громко, как в шумной толчее.
Надзиратели потерялись в коридорах. Ни один не подойдет к двери, чтобы ударить по ней ключами… Тогда бы вздрогнули, закопошились в камере, хоть как-то разряжаясь.
Память часто пропадала…
В соседней камере запели, но так тоскливо, будто нашли где-то жестяной рупор и, направив его из окна во двор, выли. От этого становилось еще тошней.
— Кто же так поет! — очнулся Котенок. — А-а! — прохрипел он в гневе и, точно сорвавшись сверху, пролетел по воздуху метра три… Наткнувшись на стол, он оглянулся, увидел костыли и, прыгнув к койке, схватил один. Потом, дико взревев, размахнулся и изо всей силы ударил костылем о стену. Костыль рассыпался: на пол полетели вставки и болтики. Котенку как будто того и надо было… Он поостыл и, взглянув на раздробленную деревяшку, прохрипел:
— Будем учиться ходить на одном… — И тут же расхохотался на всю камеру.
Перепуганный Зюзик глупо улыбался, поглядывая то на Котенка, то на Романа. Роман по-прежнему лежал на спине и спокойно смотрел на Котенка, будто гадал: а дальше что?
На самом же деле ему было не до Котенка. Он в полусне зацепился за покосившийся сруб колодца. Отчим ломиком пытался выправить «халтуру», но мать пресекла эту попытку. «Лишь бы с рук сбыть, — проворчала она. — Кто так работает? Это же себе на вред!» — «Себе я не желаю зла, — отозвался отчим. — Поправлю и как у добрых людей…» — «Людей, — ворчала мать. — Теперь люди-то длинны, как сосны». — «Почему?» — «Потому, что каждый хочет в солнце выкупаться, — ответила мать. — Вот и идут в рост, а не в корень».
Возненавидев камерную духоту, он все чаще и чаще возвращался памятью в недостроенный родительский домик. Каким уютным и крепким он виделся ему во сне! Прежде даже не заметил — работал вслепую, потому что надо помочь родителям. А домик продолжал сниться, и Роману было приятно видеть отчима, неторопливого в работе, и вечно ворчащую мать. Ни во что он теперь не верил, никому бы не дозволил коснуться своих мыслей, а вот увидятся мать с отчимом — хоть плачь! И тянуло к ним, и крепла вера в них. Без этой веры он давно бы «скорешился» с Зюзиком, стал бы «ботать…» Фу, как это противно — ломать свой язык!