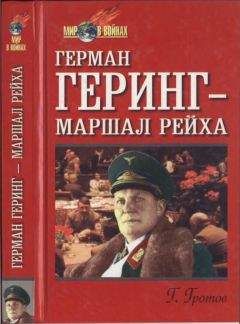Коленьков прилепил пятерню к стеклу. Рядом — его нос, сплющенный как у мальчишки. Даже губы прижал к стеклу. Смеется. Так, по тормозам. Лезет в кабину… Боже мой, сколько грязи на нем… Теперь же технику за ним мыть придется. Черт с ней, с техникой. Выбраться бы, так зубной щеткой всю ее выдраил бы.
Ливень злобствует. Коленьков громко хлопнул дверью, повернул к Эдьке грязное веселое лицо:
— Вылезли, парень… На твердой земле стоим. Теперь переждем дождик — и домой… А сейчас поесть полагается, а? Слушай, а ты будешь классным шофером… Со временем, но будешь. Ну, чего глядишь на меня, как тот самый баран, что новые ворота увидал? Вы-брались… А, ну тебя.
Эдька тупо глядел на его щеку, которая была покрыта желтым грязевым пятном. Не хотелось радоваться и вообще ничего не хотелось, даже колбасы, которую совал ему в руки, беззвучно шевеля губами и поощрительно улыбаясь, Коленьков.
Уедет, обязательно уедет, завтра прямо. Он так не может. Это выше его сил. Не надо ему славы и разговоров бывших однокурсников. Ничего не надо, потому что у него просто нет сил. И характера тоже. Для чего мучиться, для чего? Кому все это нужно? Отцу, который ночами из-за него не спит? Матери, у которой слезы не просыхают? Уж он-то знает, каково им. Он совершенно не думает о них. И к дьяволу эту тайгу.
Коленьков жует аппетитно и энергично. Пусть. Господи, как выбраться-то удалось? Ведь это было почти безнадежно. Чертово болото. Здесь все в болотах и реках. Люди не понимают: земля здесь или вода? А он хочет ходить по земле. Ему не надо сомнений… И открытий тоже. Вот так. И пусть над ним смеются желающие. Да, он струсил.
И тут же к нему вернулся звуковой мир. Грохот ливневых струй по крыше вездехода, взрывы громов. Наконец— успокаивающий голос Коленькова:
— Ты не кисни… Это бывает. Я, когда в первый раз в подобную переделку попал, маму начал звать. А было мне в ту пору двадцать два и плечи были как у одесского амбала… Вот так. И не бойся. Пройдет все, как с белых яблонь дым… Это еще цветочки… А вот если б ты в реке в аварию попал — это крупнее. Поток, понимаешь, плотик твой кверху бревнышками, груз на дне… Колотит тебя, раба божьего, по всем камешкам встречным. И без всякой, заметь, бережности. А берега высокие, на них не влезешь, да и времени тебе на подобные попытки рекой не отпущено. Сколько людей на дне этих рек сибирских осталось… Так что радуйся и давай нажимай на колбасу. Я ведь хоть человек и сознательный, однако могу и сам управиться с нею. Ну?
И это дружеское и привычное уже «ну» подействовало на Эдьку. Он засмеялся:
— Есть хочу жутко… В животе марши.
— Вернемся, — мечтательно сказал Коленьков, — тетя Надя жареной рыбки сделает. Свежей… Турчаку такая команда была дана. И по этому поводу сегодня в лагере всем потерпевшим бедствие будет разрешено по сто граммов спирта… Только бы кого-нибудь в тайге не прихватило. Любимов на болоте. Оттуда пешком трудно.
Да, Любимов… И Катюша… Боже мой, он так разволновался о своей персоне, что забыл о том, что Катюша в тайге. Без машины. На болоте. Оттуда на первой скорости не выберешься. И с ней старик Любимов. Только бы у них было все хорошо. Только бы добрались до лагеря… Что же делать? Он с ума сойдет, пока кончится этот проклятый дождь…
Ливень с новой энергией застучал в стекла машины.
— Разговор есть, Владимир Алексеевич… Извини меня, я старше тебя… — Гуторов остановился, вытер пот с лица, и по глазам его Рокотов понял, что председателю исполкома очень трудно в эти минуты.
— Слушаю тебя. Да не стесняйся. Критикуй.
Гуторов усмехнулся:
— Ты понимаешь, критиковать — это одно, а наша с тобой беседа — это другое.
Поведение председателя исполкома было для Рокотова совершенно непонятным. Приехал в райком, зашел в кабинет перед самым обедом. С утра ездил по полям. Предложил проскочить на природу. В машине тяжело вздыхал, шею платком вытирал все время. Ну, ребус, и только. Не замечалось, правда, такого раньше за Гуторовым.
Когда-то здесь была речушка. Ивы еще сохранились на бывшем берегу. Правда, посохли большей частью, выжили только самые старые, те, которые корнями крепко за землю держались и умели найти в ней воду. На пригорке умирал лес. Часть деревьев уже засохла, другая еще цеплялась за жизнь, перехватывая влагу от дождей. Здесь, в трех километрах от карьера, была зоне, действия мощных насосов осушения. Все водные горизонты откачивались, и земля постепенно выветривалась, покрывалась трещинами — и на ней умирало все живое.
— Карасей когда-то в этом месте ловил, — сказал Гуторов, показывая на русло бывшей речушки, которое теперь было небольшой ложбинкой, на самом дне которой сочился тихий ручеек. — Я ведь здешний… Тутошний, как у нас говорят. А село наше как раз там, где сейчас карьер. Красивое было село.
Они сели на склоне, и Гуторов обхватил колени руками:
— Вот иногда приезжаю сюда… Просто так. Знаешь, иногда обстоятельства прижимают. Надо одному побыть.
С утра прошел небольшой дождик, и Рокотов боялся, что не пойдут комбайны. А вот сейчас увидел он на дальнем увале, среди золотистого поля, краем своим выбравшегося на склон, две коричневые коробочки, медленно двигавшиеся вниз.
— Насонов убирает, — проследив за взглядом Рокотова, сказал Гуторов. — У него на уборке солидно дело организовано. На днях закончит.
Рокотов не ответил. В последние дни все упоминания о Насонове были для него неприятны. Ему все время казалось, что собеседники намекают на его, Рокотова, бездушное отношение к лучшему председателю. С молоком район выручил. Если б не его сверхплановые тонны — недотянули бы до спасительных ста процентов. И вот теперь в других хозяйствах района накладки по уборочным работам, а у этого все как в сказке. И транспорта ему хватает, хотя объемы у него побольше, чем кое у кого из соседей, и сушку зерна организовал как надо, и комбайны не простаивают. И стоит только начать говорить в обкоме, что погода и нехватка машин для вывозки зерна создают району большие трудности в уборке, как тут же совершенно резонное замечанию:
— При чем здесь погода? У Насонова что, дождей меньше? Или машин больше? Или поля под хлебом меньше размером, чем у других? Плохо организуете уборку, Владимир Алексеевич.
Метался Рокотов из хозяйства в хозяйство. Пошел даже на такую крайность в горячую уборочную пору, как семинар своего рода для руководителей колхозов и совхозов в насоновском хозяйстве. Довольный Иван Иванович знакомил соседей с графиком работ, показывал приспособление для сушки зерна на токах, старые брезенты, которыми не зерно застилал, а навес над ним приспособил. Походили-походили руководители, пошептались недоуменно: истины прописные, стоило ли собирать для такого дела их в эти колготные дни? У Насонова поля с хлебом рядом с селами, концы у машин короткие, вот и управляются. И дороги крепкие. А вот как быть тому же самому «Коммунару», у которого машина из-под комбайна до тока семнадцать верст по проселку делает?
Вопросов, конечно, никто не задавал, но Рокотов чувствовал, что опытные председатели и директора мысли кое-какие в себе носят. И по поводу организации уборки, и по поводу бесконечной возни первого секретаря с делами комбината. А район пока что и сельскохозяйственный. А уборка — это пик года. Отчет за двенадцать месяцев работы. Экзамен, как говорят газетчики.
И вот Гуторов тоже что-то хочет сказать.
— Слушаю тебя, Василий Прохорыч…
Гуторов глянул на него тревожно:
— Не обидишься?
— Постараюсь…
— Ладно. Надеюсь, что поймешь мою тревогу. Плохи у нас дела, Володя. Понимаешь, давно тебе хотел сказать. Думал, что сам проанализируешь. Не хотел я этого разговора, ждал его от других, да, видно, все в наблюдатели метят. А прямо никто не хочет. Я не говорю о хозяйственных делах, Володя. Тут мы с тобой в одной упряжке, на двоих и шишки делить будем. Я о твоих кровных делах, партийных.
Рокотов чувствовал, что сердце его начинает биться толчками, неровно. Волнение постепенно овладевало всем его существом. Вот он, разговор, от которого никуда не денешься. И не спрячешься никуда. Поделом тебе, сам виноват.
— Обмен документов партийных… Понимаешь, мы плохо провели это дело. Очень плохо. Формально, если хочешь. Не было серьезного разговора в первичных организациях. Виноват и я, каюсь… Тоже член бюро райкома. Не подсказал тебе вовремя. Ладно, тут пускай. Но ведь все знают, что ты большую часть своего времени отдаешь делам комбината. А есть еще район. Перед уборкой надо было собрать руководителей, секретарей парткомов… Тебе перед ними выступить. А выступил Михайлов. Не тот калибр, понимаешь… То, что я говорю, это, брат, на нюансах. Можешь признать, можешь — нет. Хорошо с тобой работать, Володя… Нравится мне в тебе то, что без оглядки берешь на себя ответственность. Или решаешь сразу, или отказываешь. Это деловая позиция, и люди ее видят. В твоем активе это. А вот с карьером возня — это другое. Почему первый секретарь райкома партии работает «мыслителем» у Дорошина? Молчишь? Слушай, ты меня правильно пойми, я как старший брат тебе говорю. Возраст у меня для этого подходящий. И опыт тоже. Все ступени прошел.