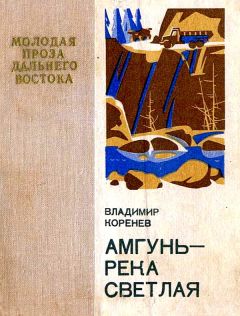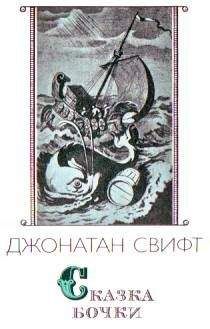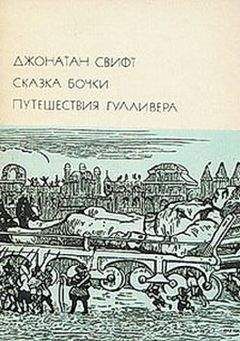Харитон Вялков, по всей видимости, не берег себя и потому мог очень просто с жизнью счеты свести… Во как, мой хороший, кудрявый лейтенант. Во какая на нас миссия.
Забредя по колено в воду, они поднатужились, стянули лодку с мели. Домрачев сел за штурвал, лейтенант рядом пристроился. Домрачев на малом ходу развернулся, вывел лодку на середину Амура и взял курс по течению.
Степка видел (дом-то на самом уступе скалы стоит — на сто верст окрест виден), как рыбоинспектор с лейтенантом катер погнали. Домрачев высится огромный, как колодина. И катер не катер — зверь!
Подумал Степка тоскливо: «Уломать бы Домрачева…» И, оглядывая Амур, выдохнул громко, будто и не один вовсе был:
— Самая пора для кеты, мать честная.
Степка мужик тощий, жилистый, в спине прямой, как доска, пальцы рук скрючены и никогда, как у всех рыбаков, полностью не разгибаются. Лицо и шея у Степки калено-коричневые, а когда он подымет подол слинялой ситцевой рубахи, из-под нее виднеется белая как кипень бочина.
Он, Лукьянов, всю жизнь на Амуре прожил, пострелом сел на весла, помогая отцу в кетовую, и с тех пор уже не выпускал весел. В армии отслужил — женился. А тут дети пошли, посыпались из его Аполлинарии. Что ни год — то дитя. У Степана от них уже голова набекрень. И так выходило, что иной год он и дома-то был наскоком между путинами, а ребеночек тут как тут. И хоть бы один не был похож на отца, так нет, все на одну колодку — батя вылитый.
Вздохнул Степан — неприятные были думы и осадок оставляли горький и тяжелый. Будто горчица наведенная. Сходить разве к Серьгину?
Однако уйти не успел, жена вышла, заслонила дорогу:
— Куда навострился-то?
Степка сделал равнодушное лицо.
— Промяться.
— Небось к дружку своему? Вожжаешься с кем ни попадя.
— Не трещи, — свирепея, сказал Степан. — Чего растарахтелась? Не к нему вовсе, промяться просто. — Голос его тише стал, и свирепость из него исчезла. Увидел: глаза у Поли его, Аполлинарии, в слезах. Замолчал, посмурил брови, подумал, что не надо бы так с Полиной-то. Одна она у него помощница на восьмерых ребятишек. Как есть одна, и потому должен он жалеть ее.
— Ну чего тебе?
— Сходил бы на Амур. Люди небось рыбалят скрытно, потихонечку. Хоть и запрет. Без рыбы как же… К Семену сходил бы, можа…
Уже не в первый раз она заводит речь про Домрачева, советует сходить к рыбоинспектору и выклянчить разрешение ночь-другую поплавать. Для нее все просто: сходи и попроси. А если не может Степан заставить себя просить? Как милостыню…
Степан густо сплюнул на вершину полыни, вымахавшей в человеческий рост около террасы. Не пойдет он на поклон к Семену, юлить, гнуться не может. И ночью по-воровски он не может. И все тут. И чувствуя, как круто зашлась в груди свирепость, что вот-вот он не сдержится, Степан сказал тихо:
— Хватит, иди в дом.
И осеклась баба. В глазах слезы застекленились: обида взяла. Ушла в избу, всхлипнув. Степан ругнулся мысленно: выть-то чего? Запрет накладывали — его не опросили. И опять же: запрет не дураки придумали, и не по чьему-то капризу. Надо — и объявили. А коли объявили — закон. А закон Степан Лукьянов переступить не мог — совесть ему не позволяет это сделать. А что, у Семена ее нет — совести? То-то и оно…
Степан потоптался на террасе, опустился во двор. Со двора огородом прямиком вышел к Амуру. Лодку-весловушку свою ногами поторкал — иссохлась, исщелилась за лето. Раскорячив ноги, посидел на борту — по-прикидывал, сколько понадобится для ремонта пакли да гудрону — осмолить лодку. На такой сунься в Амур — каюк! Амур шуток не любит.
К тому времени засвежело. Горы затянуло сизым, а над горами небо будто проросло темной беличьей шерсткой — надвинулась туча с дождем. Видно, проливается там. Потому комары и жалят, и ветер им нипочем. А Амур расколыхало… Волны наползают на источенные сланцы, откатываются и снова наползают. Степану кажется: не вмещается река в берега — разбухла, отяжелела от рыбы, оттого в течении ее спокойствие и величавость: ни дать ни взять — баба на сносях.
Сплавать бы, хоть разок сплавать, чтоб от бабы отвязаться, утешить ее. Пельмешек поесть, ушицы похлебать… Что-то делать надо. Неужели пропустить кету, так ни разу и не сплавав?
Дождь закрапал, когда Степан во двор к себе поднимался. Домой зашел и сразу встретил, вопрошающий женин взгляд. Тихий, робкий. Ни слова не сказав, повернулся и вышел. А вернулся с сетью. За сетью и просидел день целый и вечер допоздна, пока не заштопал старые порывы, ячейка к ячейке. Ребятишки, видя его за работой, попримолкли. Аполлинария спровадила их спать, дескать, не мешайте отцу. Сама по дому колобочком юлила.
Степан же углубился в дело, и спокойствие к нему пришло, ладно вязались узлы, ныряла в ячейки дели игла, и клубок ниток бегал весело по полу около Степановых ног. Кота, что подбивал лапой клубок, не пинал Степан. Хорошо ему было.
— Пособи-ка чуток, Полюшка, — сказал он жене и кинул ей скруток бечевы. — Вяжи здесь. Самый раз вроде… Счас тут стяни. Берись так, так сподручнее. Ну и шабаш на сегодня.
Отвалился к стене — рубаха нараспах, и на груди капельки пота взблескивают. Полина подсела рядышком, привалилась к мужниному плечу.
— Умаялся?
— Поясница малость задубела.
Посидели тихо, загасили свет и тихо же лежали с одной и той же тревожной думой. Степан лежал с открытыми глазами и молчал. Полина не докучала ему своими бабьими разговорами, только прижималась плотней, отчего теплей было, и скоро ее сморил сон. А Степан не опал, каждый звук различал вокруг: посапывание ребятишек, дыхание жены, и как частит по крыше дождь и чокает по стеклам, и как кот, пригревшись у ребятишек, намурлыкивает свои сказки.
И чувствовал Степан, как ядренеет в нем решимость.
Снасть — готова, лодку он осмолит завтра днем и тогда уж скоро столкнет ее на воду.
Сентябрь — время рунного хода кеты. Пока мужики с покосами возились да сено в стога сбивали, сентябрь ударил желтым по кронам берез да осин, а там и клен красным взялся, и полетели с севера с гоготаньем гуси, заватажились, закружили над протоками и озерами утки. Комары, чуя близкую погибель, жалить стали больно, зло. Небо от летнего солнца выгорело, стало белесым. Из распадков сильнее потянуло грибным — вошел в силу груздь. Пацаны, вернувшись из тайги, обжигали кедровые шишки на костерках, и меж домами тек сладкий смолистый дух.
А на Амуре непривычно тихо и безлюдно. Мунгумуйские мужики на берег редко сходят. Чего душу-то травить?
На Амуре только и видно рыбоинспектора Семена Домрачева с лейтенантом милиции, присланным из города на подмогу.
Мужики хмуро зубоскалят, дескать, сторожей на Амуре нынче больше, чем рыбаков. А кабы не знали строгости Домрачева, дай он им спуску, давно бы уже процедили тони.
Вот уже шестеро суток Домрачев с помощником своим сходят на берег через каждые три-четыре часа езды по тоням — соснуть несколько часов да откушать горяченького борщеца.
За неделю совместного мотания по Амуру в границах участка у них выработался маршрут очередности посещения тоней. От Мунгуму они шли вниз по реке до тони «Елочка», там поворачивали на сто восемьдесят градусов и, прижимаясь ближе к берегу, брали курс против течения на Орловские острова. На круг уходило до трех часов, многовато, конечно, но Домрачев не беспокоился за нижние тони, открытые глазу. Его беспокоили именно Орловские острова, где кета шла не руслом Амура, а проточками, которых здесь было великое множество. В дьявольском хитросплетении тальников и краснотала не знакомому с этими местами человеку легко заплутать и пропасть в безызвестности, потому что кружат проточки одна около другой, сходятся и расходятся и к Амуру выходят не скоро. А многие и не выходят вовсе — растворяются в наносном песке, и если ты пошел по такой проточке, то в конце концов заберешься в самую непроходимую тальниковую чащобу.
В это утро на всех тонях, что протянулись до «Елочки», было полное безлюдье, только у старого нанайского поселочка Элга заприметил Домрачев согбенную фигуру старика Андрея Шаталаева да нанайца Бато Киле, поднявшего руку к глазам и долго глядевшего вслед рыбоинспекторскому катеру.
Тоскуют старики по рыбалке. Знают, что пошла кета ходом, и тоскуют, соблюдая запрет. Домрачев хорошо знал этих людей, проживших честно свою большую и трудную жизнь, и сейчас при виде их ворохнулась в его груди теплота, обдала сердце.
— Маются старики, — сказал он.
Лейтенант пожал широкими плечами в ответ: не знаю, мол.
Не знаю… А что тут не знать? Посмотрел бы я, как отняли бы у тебя пистолет, да погоны твои лейтенантские, да от дела отвели, взвыл бы ты как! А взвыл бы, взвыл, лейтенант ты мой кудрявый. Сто очков вперед даю: прав я!
На второй или третий день патрулирования Домрачев предлагал лейтенанту отдохнуть, пропустить один дневной рейс, но Кудрявцев, удивленно на него глянув, отказался оставить пост, и рыбоинспектор больше не навязывал ему своих предложений. Закралась ему в голову мысль, что лейтенантик не совсем доверяет ему — рыбоинспектору Домрачеву.