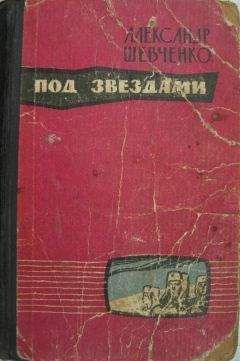Секретарь горкома, недавно присланный из Москвы, — высокий, худой, с ввалившимися щеками и уставшими глазами за толстыми стеклами очков — молча выслушал его и сказал:
— Нет, товарищ Пылаев, я не буду за тебя ходатайствовать. Такие, как ты, добровольцы осаждают меня каждый день. Хочешь помочь фронту — поезжай на лесозаготовки. Армии требуется вооружение, обмундирование, хлеб. А для этого нужны металл, уголь, дрова — да, и дрова — березовые, осиновые, сосновые. Отправляйся-ка пилить дрова, они нужны нам до зарезу! Завод боеприпасов не можем без них пустить! А повоевать успеешь — и на твою долю достанется!
Секретарь горкома не убедил Пылаева: между дровами, которые ему предстояло пилить, и войной, которая шла за тысячу километров отсюда, была слишком отдаленная связь. Но он подчинился и поехал на лесозаготовки.
В армию его призвали весной 1942 года. Пылаев рассчитывал через несколько дней быть на фронте и с гордостью известил об этом своих товарищей, крупно и четко выписав на конвертах свой обратный адрес — номер полевой почты. Но его направили не на фронт, а в пехотное училище, и ему пришлось в течение шести долгих месяцев колоть чучело, метать деревянные гранаты, ходить в атаку на своих однокурсников и петь бравые походные песни. В училище изучали топографию, тактику, уставы и многое другое. Пылаев и не подозревал, что для того, чтобы воевать, надо так много знать. Его удивлял также размеренный, строгий порядок в училище. Как можно жить спокойно, неторопливо, придавать значение каким- то пустякам, когда люди на фронте сражаются и умирают?
И вот наконец позади остался и мирный городок на Волге, и пехотное училище — он на фронте!
Но как он не похож на тот фронт, какой виделся! Пылаеву из далекого тыла!
— Почему же тут так безлюдно? — недоуменно спросил Пылаев Шпагина. — Где же передовая?
— Маскировка — первое дело на войне! — усмехнулся Шпагин и похлопал Пылаева по плечу: — Скоро это ты сам поймешь!
Все чаще стали встречаться заваленные сугробами землянки, приметные только по белому дыму, медленно поднимавшемуся из труб; орудия, выкрашенные известью и замаскированные хвоей; танки, скрытые в окопах; какие-то высокие штабели, обтянутые брезентом. Попались навстречу связисты, неторопливо подвешивающие кабель к деревьям; солдаты, несшие на палке помятый термос, из которого шел вкусный запах вареного мяса.
— Эй, поберегись! — услышали офицеры громкий вскрик. Высокая сосна вздрогнула вершиной, заколебалась, как бы раздумывая, в какую сторону упасть, и стала крениться, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, и наконец, с треском и шумом ломая ветви соседних деревьев, грохнулась на землю, подняв облако снежной пыли, в которой радугой заиграло солнце. Солдаты, свалившие сосну, в расстегнутых ватниках, в шапках набекрень, с молодецким видом стояли около громадного дерева и довольно улыбались, гордые своей работой.
— Вот это накатец будет! — восхищенно сказал Корушкин. — Никакой снаряд не возьмет!
Хлудов с недоверчивым удивлением глядел на солдат, спокойно и бодро делавших свое дело, будто они были не на передовой, а где-то в глубоком тылу, на лесозаготовках. Он видел, что здесь, в лесу, неторопливо идет какая- то своя, особая жизнь многих людей, неизвестная и непонятная ему, но для этих вот солдат, для Шпагина и Корушкина уже привычная и обыкновенная. Для него было необъяснимым, как люди могут здесь быть спокойными, что-то делать, чему-то радоваться, строить какие-то планы на завтра, на послезавтра, рассчитывать, что будут жить? Ему казалось, что тут человека повсюду подстерегает смерть, она может настигнуть мгновенно, когда о ней совсем не думают. Это непрерывное напряженное ожидание опасности подавляло в нем все мысли, все чувства, оставалось одно — страх, огромный, непреодолимый, он железной рукой сжимал сердце.
На развилке дорог, около большой свежей воронки, остановились, развернули новые, только вчера склеенные, хрустящие карты и стали решать, куда идти: направо пли налево?
Шпагин начал свертывать самокрутку.
— Пожалуйста, возьмите у меня папироску! — предложил ему Пылаев свой портсигар с изображением танка на крышке. Пылаеву хотелось сделать всем приятное и, кроме того, лишний раз показать выгравированную на портсигаре надпись: «Дорогому Юре на память от Люси».
— Митя, и вы берите! — протянул он портсигар Корушкину.
Пылаев еще робел перед солдатами и не отваживался называть их на «ты», как это делали другие офицеры.
С правого поворота послышался веселый, озорной окрик:
— Но-о-о, косопузая, пошевеливайся!
Навстречу бодро бежала маленькая, мохнатая, большеголовая лошадка; черная грива, клочьями торчащая во все стороны, и низко свисавшая на глаза челка придавали лошадке свирепый вид. На санях, широко расставив ноги, стоял солдат с короткой темной бородой, обнесенной инеем, и размахивал вожжами над головой. На вопрос Шпагина, где найти командира третьей роты, ездовой, улыбаясь всей разошедшейся в стороны бородой, посмотрел на белые чистые полушубки офицеров и сказал:
— А, новенькие, небось? Пособлять пришли? Пора, засиделись мы тут! Во-он, туда ступайте, как раз выйдете. Сам-то я из третьей роты, за продуктами на склад еду. Подождите меня, водки привезу — тут недалеко!
Шпагин сильно оттолкнулся сразу обеими палками и быстро покатил с холма вниз по узкой дороге, петлявшей между деревьев. В конце спуска он вдруг остановился и прислушался:
— Тише, ребята...
Откуда-то плыли мягкие, приглушенные звуки грустной красивой музыки. Казалось, они возникают тут же, среди деревьев, в самом воздухе.
— «На сопках Маньчжурии»... — проговорил Шпагин, мысленно повторяя с детства знакомый мотив.
— Да это же патефон! Только откуда ему тут взяться? — удивился Пылаев.
Патефон никак не вязался с его представлением о фронте, о передовой.
— В землянке, наверное! Вон, глядите! — указал Корушкин на холмик снега под тремя могучими соснами, к которому вела узкая тропинка. Близ землянки на лениво тлеющем костре стояло закопченное ведро; коротконогий, широкоплечий, рыжеволосый солдат в расстегнутой гимнастерке колол дрова; громко крякая, он с такой силой всаживал топор в березовое бревно, что тяжелые поленья с угрожающим гулом разлетались в стороны.
— Вы к ротному? — спросил солдат. — Как раз пришел — всю ночь во взводах был!
С трудом открыв дверь, заваленную снегом, Шпагин протиснулся в маленькую землянку.
В землянке были двое. Один, с двумя квадратиками на петлицах, с густыми соломенными, лихо закрученными вверх усами, которые казались наклеенными на круглом, очень румяном лице, лежал, протянув ноги в валенках на спинку железной кровати, и читал книжку. На другой кровати кто-то спал, накрывшись с головой полушубком и негромко всхрапывая.
Офицер встал, протянул руку и отрекомендовался окающим говорком:
— Лейтенант Полосухин, командир третьей роты... Садитесь прямо на кровать, ничего...
«Каким смешным делают его эти усы», — подумал Шпагин.
Открытый патефон стоял на столике, заставленном грязными тарелками, помятыми консервными банками и кружками; черный диск крутился, иголка хрипела, землянку оглашали жалкие дребезжащие звуки вальса, которые издали казались такими красивыми.
— Что же это у тебя — человек спит, а ты патефон заводишь? — сказал Шпагин.
Полосухин поглядел на спящего и махнул рукой.
— Теперь хоть из пушки пали, не проснется. Ночью за «языком» ходил.
Шпагин оглядел землянку. По всему было видно, что живут здесь давно — жилье было устроено прочно и основательно: стены обшиты строгаными досками, вдоль стен стоят три железные кровати, покрытые ватными одеялами неопределенного цвета; на маленьком замерзшем оконце висит кружевная занавеска; над столиком на стене укреплена керосиновая семилинейная лампа с закопченным стеклом; рядом большими гвоздями прибиты несколько любительских фотографий.
Узнав, что офицеры из новой дивизии, Полосухин обрадовался:
— Значит, наступать будем! Вот здорово! — и бросился будить спящего: — Захарий, Манвелидзе, слышишь — наступление!
— Погоди ты, пусть человек поспит, не сегодня же наступать будем, — остановил его Шпагин.
— Да ведь новость-то какая, ребята! Знали бы вы, до чего надоело сидеть в здешних болотах!
— У вас же тут беспрерывно идут бои!
— Какие это бои! Вот под Сталинградом, там действительно битва, а мы тут ковыряемся в лесах да болотах. «Бои местного значения», как пишут в сводках. Я ведь в здешних местах всю войну толкусь — и фактически на одном месте. Начал воевать от Смоленска, потом Вязьма...
— Так ты под Смоленском был? — Шпагин вдруг почувствовал теплую симпатию к Полосухину, даже его ухарские усы уже не казались смешными.
Они с увлечением стали вспоминать знакомые места и ожесточенные бои лета и осени сорок первого года.
Одно из первых переживаний, какое Шпагин испытал на войне, была горечь поражения, бессильная ярость от сознания своей беспомощности перед врагом.