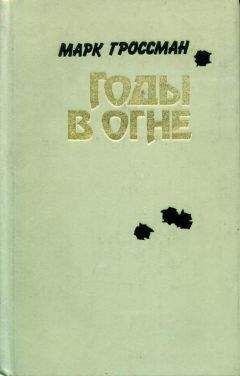Вострецов лишь несколько недель фронта ковал коней при штабе 6-го корпуса. Как-то, подшивая подковы кобыле начальника штаба, обратился к хозяину:
— Немалую просьбу имею, господин генерал.
— Слушаю, голубчик.
— Отечество с немцем в поле сошлось, а я коням хвосты кручу.
Штабник нахмурился, пожал плечами.
— Чем до войны хлеб добывал?
— В кузне спину ломал. Это так.
— Как же хочешь, чтоб отпустил? А ковачом — портного сюда?
— Понимаю, ваше превосходительство. Однако и меня поймите.
— То есть?
— Воевать желаю. Много наград отечеству заслужу.
— А ты, братец, самонадеян зело. Пуля чинов не разбирает, однако рядовым вдвое достается.
— Это знаю. Но бояться смерти — на свете не жить.
— Фамилия?
— Вострецов.
— Вполне подходит. Остер.
Генерал с головы до ног обозрел могучего кузнеца, взглянул в его глубокие жесткие глаза — и внезапно согласился.
— Добро, голубчик. Иные, случается, с фронта в тыл норовят. Известно: не все те мужики, кто в штанах ходит. А ты, вижу, умница. Что ж — с богом. Я прикажу.
Прохаживая подкованную кобылицу близ кузни, заметил:
— Не отличишься ничем — назад не возьму.
— Отличусь. Я, ваше превосходительство, на железе рос. Слов зря не бросаю.
На линиях боя Вострецова заметили почти тотчас. Он сам вызывался ходить в разведки; на биваках, когда все валились с ног после марша, стоял на часах; в рукопашных схватках его ладная фигура мелькала обычно в самом пекле огня. В свободные минуты, которых так мало на фронте и которые обычно используют для сна, вчерашний кузнец листал книги русских и немецких генералов, позаимствованные у ротного начальника, или разбирал и собирал пулемет.
Если случалась возможность, часами безмолвствовал на огневых позициях артиллерии. Как-то упросил пушкарей дать ему подолбить немцев и удивил всех крайне, поразив три цели из четырех.
— Ты, братец, либо враль, либо сам бог твою руку водит! — сказал ему артиллерийский офицер. — Божился ведь, что ранее из орудий не стрелял.
В одном из многодневных сражений немцы ударили 14-й Сибирской дивизии в стык полков, смяли оборону 54-го пехотного, и штаб соединения утерял всякую связь с частями. Любой фронтовик, не только офицер, понимает, какая это беда и что может произойти от таких неурядиц.
Генерал припомнил хвальбу кузнеца и велел ему наладить связь с начальником дивизии, даже если для сего придется положить на плаху войны свою голову.
Степан не только нашел штадив, но и протянул к его блиндажу телефонные провода, перебитые снарядами немцев.
В реляции к награждению Вострецова первым Георгиевским крестом указывалось, что унтер-офицер (он уже стал унтер-офицером) «под сильным действительным огнем противника с явной опасностью для жизни» выполнил тяжелый боевой приказ.
Только-только получил награду и — на́ тебе! — поймал пулю в кость. Отлежав, сколько полагалось, на больничной койке, разведчик попал уже в 7-ю роту 71-го полка 18-й Сибирской дивизии.
И снова, воюя, учился управлять трофейным конем и саблей, и делал это, по суткам не оставляя седла.
Вместе с тем война умудрила Степана, развила его природную осторожность и осмотрительность.
Он без пощады корил пехотинцев, не желавших долбить лопатками землю, чтоб зарыться в нее от пуль.
Узрев солдат, темневших шинелями поверх снега, не уставал внушать:
— Не окопаешься — пуль нахватаешься!
Пехотинцы не сдавались:
— Мы теперь тут, а через час — и след простыл. На кой он нам ляд, окоп-то? Всю войну воюем, а бог миловал.
Зарывая убитых в могилы, унтер хмуро поучал лентяев:
— Пуля не разбирает, сколь ты воевал, чиркнет — и ленись хоть тысячу лет. Под крестом.
Как-то, в нещадной атаке, в сплошном визге снарядов и пуль увидел он старичка солдатика, камнем упавшего в землю, только горб шинели торчал над черным и красным снегом.
Решив, что пехотинца взяла пуля, Вострецов кинулся к нему взглянуть — мертв или как? — и различил в бледном рассвете серое заросшее лицо, серые дрожащие губы, серые, смертельно устрашенные глаза.
— Э-э, брат, — усмехнулся Степан, — да ты, я вижу, от жути обмер. А ну, вставай!
Солдат стучал зубами и не шевелился.
— Чего прилип к земле? — стал сердиться Вострецов. — Страх от смерти не защита, того и гляди, пулю затылком словишь! Встать!
— Голубчик! — схватил его за ноги служивый. — Не губи. У меня дома семеро по лавкам, мал мала меньше. Мать, старик отец… На кого их покину?..
— Бога душу мать!.. — взорвался прапорщик (он уже был прапорщик). — Ты что ж решил: мне помирать охота и дома у меня никого! Встань, застрелю! Вот те крест — застрелю!
После боя Степан отыскал в траншее робкого сего солдатика, внушал ему:
— За трусом смерть охотится — трудно ли это понять! А то ведь как бывает? С излишком бережешься, глядь — шапка цела, да головы нету.
Нижний чин продолжал глядеть на Георгиевского кавалера с удивлением ужаса — и молчал.
— Чо страшиться? — пытался поправить дела шуткой Вострецов. — Когда я жив — смерти нет, а когда есть смерть — меня нет.
Пехотинец безмолвствовал.
Рядовые, набившиеся в траншеи, ухмылялись, поддерживали офицера:
— Оно ясно: на войне трусость — плохой приятель. Да где ж ему, дураку, понять!
А солдатишке советовали:
— На правду не гневайся, — сними шапку да поклонись.
Уже повесив на гимнастерку три Георгия, Вострецов не гнушался показывать бойцам все, что умел сам. А умел он многое: исправлять порчу пулеметов, верно ходить по звездам, спать без хвори на снегу, петь, безголосо, верно, но с полной душой.
Теперь уже, на новой войне, коченея близ Бирска, Степан Сергеевич хрипло говорил роте:
— От пристани на город — как лезть? Круто! Потому нас беляки отсюда не ждут. Так?
— Так.
— Вот мы тут и взвалимся! — заключил Степан.
— А вдруг ждут? — вступал в разговор осторожный Кучма. — Да, гляди, полили крутизну водичкой. Тогда и покатимся мы с тобой, паря, прямо в преисподнюю, в ад.
— Значит? — выспрашивал Вострецов.
— Значит, пойдем в разведку вместе, Степан Сергеевич.
Однако Вострецов, заручившись позволением ротного, провалился в сумрак ночи один. Он знал многих обывателей пятнадцатитысячного городка, помнил наизусть улицы, все спуски и подъемы. А также держал в уме, что после февральской революции в город вернулись из ссылки и с каторги старые большевики во главе с Иваном Сергеевичем Чернядьевым. Подпольщик с известным опытом, Степан надеялся, коли пробьется в Бирск, найти кого-нибудь из них.
И красноармейцы с почтением думали о вчерашнем офицере, коему выгоды его должности и чин не помеха в риске.
Вернулся помкомроты в десять часов ночи, притащил с собой каких-то знакомцев, говорил с ними — к общему удивлению — на башкирском, татарском и чувашском языках. Разведка с полной точностью убедила: город с крутизны не прикрыт врагом.
Рота тотчас стала карабкаться вверх в совершенном молчании, стараясь даже дышать беззвучно.
Впереди всех угадывалась сухощавая фигура Степана Сергеевича. Он взгромождался на гору по шажку, оступался, падал, но продолжал лезть с упорством человека, у которого нет другого пути.
И когда ротный негромко скомандовал: «Приготовиться к рукопашной…», Вострецов уже успел передохнуть на плоской вершине увала, первый закричал «Ура!» и кинулся вдоль улицы, выставив винтовку.
Он бежал в атаку, держа палец на спусковом крючке, и ничего не было, кажется, в Бирске, кроме этого «Ура!» и запаленного дыхания людей, когда «Ура!» смолкало.
Рота смела штыками редкое боевое охранение неприятеля, совершенно оцепеневшее на тридцатиградусном морозе, и бежала к центру города.
Уже через полчаса Лыков и Вострецов вывели людей к женской гимназии, где можно при нужде укрыться в старых окопах.
Однако рота красных, возникнув на речной окраине Бирска, тотчас, как магнитом, притянула к себе 32-й Прикамский полк белых и Георгиевский офицерский батальон. Это были главные силы противника здесь, и, зная это, комбриг распорядился атаковать неприятеля с других направлений. «Ура!» загремело и на севере, и на востоке, и еще бог знает где.
Офицеры, бежавшие навстречу, узнавались не столько по еле видным погонам, сколько по выправке и четкости профессиональных действий.
Дважды кидались Георгиевские кавалеры на Степана штыками, и оба раза упали под выстрелами.
Пожилой ротный еле успевал за своим помощником, но это не мешало Лыкову радоваться сноровке фронтовика.
Потом внезапно оказалось, что рядом бегут другие полки бригады, и натиск их оказался столь дружный и безоглядный, что неприятель оробел и почти весь полег на заснеженных улицах городка.