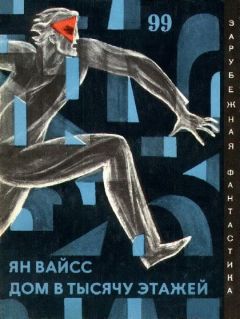А дальше — госпиталь в большом незнакомом городе, в здании школы с широкими солнечными коридорами и с рассыпанной грудой черных досок в дальнем, сумеречном конце вестибюля.
Дорога и санитарный поезд вспоминались смутно, только казалось, что вагон сильно качало, кидало по сторонам, а колеса поезда стучали под самым затылком. Весь в бинтах, как в оковах, он неподвижно лежал на узкой полке и все еще воевал, командовал, поднимал в атаку людей.
Трубка полевого телефона, протянутого в наспех выбитый в мерзлой земле окоп, захолодела и жгла ухо, а голос комбата в ней то заходился криком: «Солдаты у тебя или бабы беременные!?», то падал до свистящего шепота: «Смотри… Не возьмешь деревню — голову от кручу!»
— Ладно уж. Ладно, — шевелил спекшимися губами Андрей Данилович и, слабо догадываясь, что все происходящее сейчас уже не настоящее, а прошлое, упрямо превозмогал чугунную тяжесть век и открывал глаза.
От омерзительно тошнотворного запаха йода, карболки и стиранных бинтов во рту становилось сухо и кисло, а к горлу подкатывал маслянистый комок — ни проглотить, ни выплюнуть. Глаза от удушья и боли наливались кровью — вот-вот лопнут, тело тяжелело, до страшной ломоты в костях вдавливалось в полку, начинало казаться, что песок из порванных мешков того дома сыпется теперь не на снег, а на лицо, на грудь, на ноги, и Андрей Данилович, устав барахтаться в песке и разгребать его руками, снова с головокружительной быстротой падал спиной вперед в красновато-мутную бездну, а стук колес под затылком переходил в стук пулеметов, вспарывающих длинными очередями тонкую снежную корку.
Комбат кричал больше для порядка и, откричавшись, отведя душу, озабоченно спрашивал:
— Помочь тебе?
— Не надо… Сами, — тяжело дышал Андрей Данилович, устав от коротких, но частых атак, которыми он отвлекал внимание немцев от обходившего деревню лощиной первого взвода роты.
А когда в деревне полыхнуло и раз, и другой, когда захлебнулись пулеметы, словно убитые на полуслове, он легко, только чуть коснувшись бруствера ладонью левой руки, вынес свое тело из неудобного окопа и побежал, откинув голову, высоко взбрасывая колени, по ломкому насту к плетням, к заснеженным огородам, к обгоревшим, черным остовам изб.
После короткого боя он спокойно шел тихой улицей, ощущая, как жестко трутся в коленях обледеневшие за день полы шинели, и думал о встрече с комбатом, о том, как с легкой усмешкой посмотрит ему в глаза и доложит про обстановку. Командир батальона ткнет его кулаком в грудь и скажет:
— Молодец. Вывернулся.
Но он уже наперед знал теперь, что его ожидает там, у обгорелой коновязи, не хотел, чтобы все повторилось, и, судорожно сжимая челюсти, с усилием подымал тяжелые веки.
Стучали под затылком колеса поезда, качало вагон. Тошнило от карболки и йода, воздуха не хватало, и опять тело засыпал песок, погребая его под своей тяжестью. Андрей Данилович думал, что если даст совсем засыпать себя, то ему уже не подняться, наступит конец, он так и останется в той бездне, где пулеметы вспарывают очередями снег и приходится бесконечно поднимать людей в атаку, и он, задыхаясь, трудно поводил плечами и все расталкивал и расталкивал песок грудью… Но вдруг замечал туманное от мороза небо, видел в нем зыбкое солнце, охваченное зеленым обручем, будто закованное холодом, и понимал, что его несут на носилках; то бил ему в лицо до черноты яркий свет, а рядом слышался звучный, как удар колокола, женский голос: «Маску!» Потом мерещились чисто побеленная комната, легкие, сквозные занавески на окнах, женские лица и одно мужское, усатое, широкое в скулах. И все барахтался в песке, мотал головой, не давая засыпать лицо, постанывал, скрипел зубами, пока однажды враз не почувствовал себя легко. Сердце колотилось гулко, полно, дышалось свободно, воздух расходился по телу тугими теплыми волнами. Слышалась музыка: звуки ее, чистые, ясные, словно наполняли темноту солнечным светом, как будто это была и не музыка вовсе, а само утро пело, наступая на земле вместе с восходом солнца.
Внезапно музыка оборвалась. Андрей Данилович очнулся, весь в поту от слабости, но с необычно свежей головой, с истомной легкостью в теле; увидел матовый больничный плафон, свисавший с белого потолка на блестящем стальном штыре, долго зачарованно глядел на него, собираясь с мыслями, и глухо спросил, не отрывая глаз от плафона:
— Кто… играл?
На него, заслоняя свет, наплыло усатое мужское лицо.
— Радио в коридоре. Да ты завозился, я и сходил, выключил.
— Включи, — потребовал он и, ощущая горячую колющую боль в шее, медленно повел взглядом по электрическому шнуру вдоль потолка, сначала до стены, пока не заломило в глазах, потом, отдохнув, вниз по стене — к выключателю у дверного косяка.
В палату, беззвучно отворив дверь, вошла молодая женщина в свеженакрахмаленном халате, слежавшемся прямыми жесткими складками. Лицо у нее было бледно-смуглым, на выпуклый лоб падала желтоватая прядка волос. Неслышно ступая в мягких туфлях, чуть наклонив озабоченно крупную голову и ломая темные брови, она сделала несколько быстрых шажков и вдруг, встретившись глазами с Андреем Даниловичем, точно запнулась, шагнула по инерции еще раз — коротко, пятка к носку, и остановилась.
Лицо женщины просияло, и он заметил, что глаза у нее тоже желтоватые и глубокие, светлые.
— Сестричка, — слабым голосом позвал Андрей Данилович, а когда она, торопливо прошуршав халатом, низко наклонилась к нему, спросил: — Парней-то у вас здесь симпатичных много?
Женщина удивленно отпрянула, выпрямилась.
— О, господи! Я думала: он умирает… — Она рассмеялась низким теплым смехом. — Надо полагать, специально конкурировать прибыли?
— Ну да… В парадной форме, — скривил он в вымученной улыбке рот и хотел было показать подбородком на забинтованное тело, но не мог пошевелиться; изнутри поднимался жар, губы стали сухими и жесткими, веки отяжелели. Он почувствовал приятную мягкость подушки и то, как все глубже уходит в нее голова, коснулся щекой гладкой наволочки и незаметно для себя заснул.
Вечером, едва проснувшись, Андрей Данилович, вялый после сна, с онемевшей от долгого лежания спиной — куда только девалась утренняя легкость — сразу же посмотрел вправо от кровати. Но возле него сидела теперь другая сестра, постарше… А позднее, когда он уже мог помногу говорить и не чувствовать усталости, он узнал, что женщина, которую он первой увидел в то утро, вовсе и не сестра, а молодой врач. Звали ее Аллой Борисовной. Она оперировала его подряд шесть часов. Да и вообще в тот день у нее было много работы, она находилась в операционной почти сутки, вышла оттуда вконец обессиленная, с помутившейся головой, седа во дворе госпиталя в ближайший сугроб и там заснула.
Хирурги всегда представлялись ему мужчинами с выправкой кадровых строевиков и с мускулистыми, в поросли волос, руками. А тут — невысокая, слабая на вид женщина… Но сколько силы и выдержки! Пораженный, он полдня проблуждал по потолку отрешенно задумчивым взглядом, а потом вслух подумал:
— Вот на таких и надо жениться.
Его сосед по палате, пожилой усатый человек, командир саперного взвода, засмеялся.
— Смотрите-ка, оклематься еще не успел, а уже в женихи набивается. На свадьбу-то пригласишь?
Андрей Данилович вспылил:
— А вот и женюсь! И не над чем тут гоготать… товарищ младший лейтенант!
Сапер обиделся, что он подчеркнул разницу в звании, и остаток дня они промолчали.
Весна в тот год пришла бурно: сугробы осели в два дня, кусты сирени во дворе госпиталя стояли в воде, все вокруг словно плыло и покачивалось, ручьи в осколки дробили солнце, а люди, оступаясь, взмахивая руками, ходили по гнущимся, пружинящим доскам, положенным концами на камни. Ложась грудью на подоконник, Андрей Данилович грел на солнце затылок и с немым восторгом смотрел вниз, на слепящий поток. Ах, и воды ж было везде! Настоящее море разливанное! Поправляясь, он чувствовал, как крепнут мускулы, как с каждым днем тело становится все подвижней, собранней, и по утрам, радостно встречая рассвет, потягивался у окна, хрустел суставами и тосковал по работе. Ночами снилось, что он убирает в хлеве теплый навоз или накладывает в поле вилами свежую копну сена; запах сена дурманил голову, во рту ощущалась сладость, будто он долго жевал клевер. Просыпался и с сожалением смотрел на свои руки, сильные, такие ловкие с детства, а сейчас бесполезно протянутые поверх одеяла.
Слова, случайно сорвавшиеся тогда при сапере, точно к чему-то его обязывали, и дни проходили в тревожно-сладостном ожидании обхода врача. Он обостренно, еще издали, улавливал приближение ее мягких шагов, шуршание всегда свежего, всегда накрахмаленного халата и лихорадочно прикидывал в уме, как бы повеселее ее встретить. Дверь открывалась, и язык во рту деревянел, он неожиданно каменел лицом и, злясь на себя, поворочивался при осмотре молчаливым истуканом. В палате у них она не засиживалась, тем более, что и он, и сосед-сапер шли на поправку и чувствовали себя здоровяками — хоть сейчас на фронт. Но однажды задержалась возле его кровати, окинула его долгим взглядом больших влажных глаз.