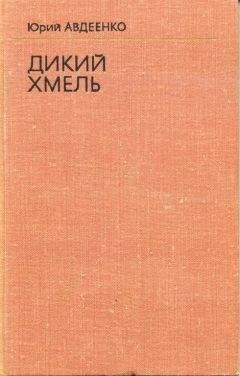Вывод напрашивался легко: уборка — бич для хозяйки комнаты.
Это была правда.
Мама все делала сама. Убирала, готовила, стирала. Стирка в нашем доме была настоящим бедствием. Сания почему-то стирала не меньше трех дней в неделю. Ее выварка, широкая и большая, восседала на плите, точно квочка на яйцах, клокотала монотонно и громко. Даже иногда чавкала, как галоши в грязь. Пар стелился по стенам блеклым туманом. И стены были мокрыми, и двери мокрыми, и даже тетради... Чернила расползались в них. Буквы были похожи на маленьких сороконожек.
— Ну и запахи у вас тут, — сказал Николай, сняв кепку. — Открыла бы форточку.
— Стены будут плакать, — возразила я. — Сейчас они просто влажные. А если открыть форточку, вода польет ручьями.
— Надо ходить в прачечную... — заметил он нравоучительно.
Я усмехнулась:
— Скажи об этом соседке.
Да. Он был начисто лишен чувства юмора. Понял меня в прямом смысле. Распахнул дверь в коридор и крикнул на кухню:
— Какого черта слякоть в доме развела? Для кого государство прачечных понастроило?
Сания была глуховатой женщиной. Но Николай кричал громко. И Сания опешила. Смотрела удивленно, приоткрыв рот. Она, может, и разобрала слова, но не могла понять, в чем, собственно, дело. Так не смог бы ничего понять верующий, если бы в церкви, куда он ходит не один год, вдруг грозным окриком спросили с амвона: «А зачем ты молишься богу?»
Я была готова провалиться сквозь землю. Возможно, нужно было выскочить в коридор, схватить Николая за рукав и втащить в комнату. Но я стояла как окаменелая. А Николай уже ходил по кухне, старательно объясняя растерявшейся соседке, что прачечная — очень удобный и прогрессивный вид бытовых услуг, доступный каждой советской семье. Высвободившееся время целесообразно использовать для чтения книг, посещения театров, кино...
Старался Николай напрасно. Книг Сания не читала, театров не посещала, кино смотрела только по телевизору.
Пар клубился над вываркой, как дым над трубой. Покачиваясь, он подбирался к потолку, расплывался широким, белесым облаком. И лампочка, без абажура, висящая на старой короткой проволоке, излучала вокруг себя радужные круги.
Может, Николай сбился с пути, как путник в густом тумане, может, просто увлекся звуками своего раскатистого голоса и позабыл, где находится, неосторожно задел бедром корыто, и оно, качнувшись, вдруг подалось в сторону мойки, грохнулось на пол, расплескивая воду и хлопья мыльной пены. Шум был гулким. И жильцы первого этажа, чья кухня была под нашей, выскочили на улицу. Испугались они не без основания — потолок на их кухне осыпался сразу в нескольких местах. Это случилось, наверное, потому, что Николай, надеясь спасти положение, попытался на лету подхватить корыто. И тоже шлепнулся на пол...
Сидел в мыльной воде, развесив руки, как курица крылья, и вид у него был ошарашенный.
Сания казалась перепуганной до смерти. Онемевшая, она прижимала к подбородку подол фартука. И глаза ее были полны страха.
— Вот незадача, — удрученно сказал Николай, поднял руки и посмотрел на ладони. Пена сжималась, двигалась, пузыри лопались заметно.
Вздохнув, Николай встал с пола.
Мне стало жаль его. Позднее я старалась избавиться от этой слабости — жалости к мужчинам. Но получалось это не всегда.
Я взяла в туалете тряпку. Принялась подтирать пол. Сания тихо складывала в корыто белье. Николай отжимал брюки. Он больше не учил Санию, как нужно жить. Он учился сам...
Впрочем, стенку Николай сделал. И потолок на первом этаже хотел починить. Но соседи не разрешили.
— Нет, нет, — говорят, — спасибо. Пусть из райжилотдела приходят, пусть увидят, в каких условиях мы живем.
Стенка была тонкой, в одну доску. Но я оклеила ее газетами и обоями с двух сторон. Дверь Николай навесил настоящую, тяжелую. Врезал накладной замок. И я оказалась владелицей комнаты, вполне приличной и даже просторной.
Договаривались, что за ремонт он возьмет пятнадцать рублей. Но, когда я протянула ему деньги, он замотал головой:
— Это лишнее. Я по-товарищески... Лучше сходите со мной в кино.
После случая с корытом он был удивительно неразговорчивым и называл меня исключительно на «вы».
— Хорошо. Только билеты покупаю я.
— Покупайте, — согласился он.
Я заперла дверь. И мы пошли в кино.
Светило солнце. Пахло талым снегом и мокрыми заборами. Здесь, на окраине, еще сохранились заборы, черные и кривые, за которыми робко и грустно прятались хилые вишни и яблони. Они не стремились к небу, словно их совсем не трогало солнце. А может, оно и не трогало их, потому что тополя росли вдоль дороги роскошные, давали много тени. И пуха тоже... Ранним летом он кружился в воздухе. И белые полосы у заборов были похожи на низкие сугробы снега.
В буфете кинотеатра мы пили пиво и ели пирожные. Кинотеатр был новый. И буфет был такой, как на красивых журнальных фотографиях. Окна возвышались от самого пола до потолка. Стекла блестели толстые. А за ними вытянулся проспект, и трамваи сновали, как букашки.
— Скоро в армию? — сказала я.
— Да. Осенью. — Николай смотрел на стол в крошках от пирожного и машинально двигал стакан, в котором пенилось немного пива.
За соседним столом розовощекая, упитанная дама в голубом импортном пальто, простеганном, как одеяло, пыталась кормить ребенка пирожным. Ребенок зажимал рот. И повторял:
— Не качу... Не качу...
Дама угрожала:
— В кино не пустят. Не пустят...
Николай все двигал стакан и не поднимал глаз. Я не узнавала его. Мама всегда говорила: «Поздороваться с человеком не забывай, первому впечатлению не доверяй». В мире, наверное, много умных истин. Однако их не усвоишь, словно таблицу умножения. Иначе мир бы состоял из одних мудрецов. А может, так оно и есть? Может, каждый человек мудр. Только по-своему.
— Скажите, Наташа, вы дружите с каким-нибудь парнем?
Вот оно что! Уши у Николая красные, как жар в печи, когда дрова прогорели, и больше не гудят, и тепло от них идет настоящее.
— Я работаю, учусь. У меня нет времени на такие глупости.
— Конечно, — соглашается Николай и залпом выпивает остатки пива.
Мне чуточку неловко и даже как-то чудно. Ведь я впервые пришла в кино с молодым человеком. С парнем! Я, конечно, знала, что рано или поздно такое случится. Но представляла все иначе. И парень мне представлялся другим. Во-первых, высоким, во-вторых, с длинными тонкими пальцами, музыкальными. Совершенно не обязательно, чтобы он был музыкантом, но пальцы его должны вызывать скрытое восхищение окружающих, а не быть короткими и загрубелыми, как у Николая. Еще я хотела видеть прическу у парня красивой, волнистой, пусть волосы будут густыми и обязательно цвета спелой ржи. А глаза? Глаза все равно какие. У Николая тоже неплохие глаза: виноватые и цвета своеобразного — полузеленые, полуголубые.
А вообще, теперь он не такой нахальный, как в первый день.
К случаю мама говорила: сел в лужу. Одевала слова в разные одежды. Иногда в сочувствие, иногда в насмешку, бывало, в злость... Тогда, на кухне, Николай сел в лужу — в самом буквальном смысле. И похоже, встал из нее другим человеком. Может, это важно — сесть в лужу вовремя?
— Вы, Николай, уже кончили школу?
— У нас в деревне семилетка была. К дядьке сюда приехал, пытался в вечерний техникум поступить. В диктанте ошибок наделал... А как у вас с русским? — он говорил вяло, вернее, трудно, словно язык плохо слушал его.
— Хорошо.
— А у меня наоборот. Теперь после армии буду пробовать...
— Разве в армии русский язык проходят? — Я, конечно, сморозила глупость. Все знают, армия не филфак.
— После армии легче. Другое отношение...
Он убрал руки со стола, откинулся на спинку стула и посмотрел на меня пристально и смущенно. Теперь и лицо его пылало, как и уши.
Я все поняла. Выдержала его взгляд. Скорее всего потому, что Николай был некрасивым парнем... Я нравлюсь ему. Чепуха! Меня это ни чуточки не волновало.
За соседним столиком, морщась и отворачиваясь, ребенок твердил:
— Не качу... Не качу...
1
Причиной скандала послужили стулья. Это был, конечно, не какой-то потрясающий скандал, переполошивший цех. Но руководство пятого цеха, где я вначале работала в бухгалтерии, а потом перешла на конвейер, он обеспокоил.
Испокон века работницы цеха сидели за машинами на выкрашенных в зеленый цвет деревянных табуретках, которые мастерили в подвале фабрики дяди мироны и племянники коли. Табуреты отличались прочностью, тяжелым весом и особой ненавистью к чулкам капрон. С ними мирились, как с трудными родственниками. И никому в голову не приходило, что вдоль конвейера можно сидеть на чем-то другом.
И вдруг... Словно в волшебной сказке, вызвав всеобщее удивление в цехе, появились элегантные вертящиеся стулья с сиденьями на поролоне, обшитые искусственной кожей. Спинки стульев выгибались, как скрипичный ключ. Работать на таких стульях было одно удовольствие.