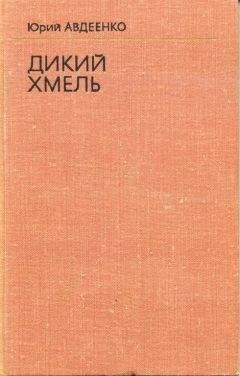И вдруг... Словно в волшебной сказке, вызвав всеобщее удивление в цехе, появились элегантные вертящиеся стулья с сиденьями на поролоне, обшитые искусственной кожей. Спинки стульев выгибались, как скрипичный ключ. Работать на таких стульях было одно удовольствие.
Председатель цехкома, он же старший мастер смены, он же ветеран фабрики Иван Сидорович Доронин, потирал руки, весело щурил глаза. И нос его, широкий и большой, морщился от удовольствия, точно чуял какие-то очень приятные запахи.
Но в цехе по-прежнему пахло кожей, синтетическим клеем, машинным маслом. Лишь за окнами сияло белое солнце. И легко, словно вздыхая, дрожала дымка, по-весеннему розовая и голубая...
— Кхе, кхе, кхе... — покряхтывал Доронин. — Как в парикмахерской. Даже в кинотеатре «Россия» таких стульев нету...
Его лысая голова лоснилась от удовольствия. Казалось, что с секунды на секунду над ней появится нимб. Халатом Доронин не пользовался. Носил широкий клеенчатый фартук, который тоже блестел, как фара автомобиля.
— В багетовую рамку бы тебя, Иван Сидорович, — сказала Люська Закурдаева и улыбнулась накрашенными губами.
— Зачем? — не понял Иван Сидорович.
Люська была красивой молодой женщиной. Пожалуй, самой красивой в цехе. Язык у нее, как конвейер, не знал покоя.
— В красный уголок... И на стенку. К портретам.
Иван Сидорович засопел. Вытер ладони о фартук. Они были потными. И следы от них появились четкие, но пропали быстро, точно вода в песке. Сказал:
— Ты мне аполитические разговоры не веди. А то я тебя по комсомольской линии взгрею.
— Я не комсомолка, Иван Сидорович.
Иван Сидорович раздраженно махнул рукой:
— То-то и оно... Знаешь только, с мужами разводиться.
— Что было, Иван Сидорович, то было, — согласилась Люська. И подмигнула Доронину с хитрой улыбкой на лице так ловко и нахально, что он побагровел от возмущения.
Затрещал звонок. Ожил конвейер, Люська крутнулась на стуле — волосы вытянулись черной тучей. Блаженно зажмурила глаза. Веки были накрашены густо, и оттого ресницы казались преогромными. Выкрикнула:
— Кр-ра-со-та! Нет. Иван Сидорович, за стулья спасибо. Не зря мы тебя столько лет в председатели цехкома выбираем. Защитничек ты наш! Иди, я тебя поцелую!
На поцелуй Иван Сидорович не согласился. Да и благодарить его за стулья, как выяснилось позднее, было преждевременно.
Через день цех посетила делегация из Закавказья. Где-то там в республике есть обувная фабрика, с которой соревнуется «Альбатрос». И раз в сколько-то лет приезжают делегации для обмена опытом, что ли. Смуглые, веселые ребята прошли по цеху в сопровождении директора фабрики Луцкого, главного инженера, начальника цеха. А один из гостей, с брюшком, усатый, то и дело восклицал:
— Вай! Вай! Вай!
Гости были в четверг.
В понедельник, явившись на работу, мы обнаружили возле своих машин пространство, свободное от всяких предметов. Можно было лишь догадываться, что именно это пространство на прошлой неделе занимали стулья.
Казалось бы, какая разница, на чем сидеть. Но женщины (а их в цехе девяносто девять процентов) почувствовали себя оскорбленными. Даже обманутыми. Конечно, вполне вероятно, что в состав делегации входили достойные, почтенные люди. И, видимо, правильно: не стоило осквернять их взгляд зрелищем допотопных табуреток. Добрые человеческие отношения требуют уважения к гостям. Но они требуют еще и чувства собственного достоинства.
Словом, как сказала Люська Закурдаева: «Бабоньки зашумели».
Доронин, который петухом влетел в цех с сообщением: «Спуститесь на второй этаж, получите табуретки», — сник, почувствовав накал страстей. И без энтузиазма напомнил:
— Мы в одна тысяча девятьсот двадцать втором году на ящиках сидели... А людей обували.
Люська Закурдаева — лицо серьезное, как лозунг, — поманила Доронина и сказала ему полушепотом:
— В одна тысяча девятьсот двадцать втором году, до нашей эры люди сидели не на ящиках, а на камнях. Почему, Иван Сидорович, знаешь?
— Не знаю, — признался Доронин.
— Гвоздя не было тогда...
Доронин тихо выругался и пошел к начальнику цеха.
2
— Базарим! Конвейер шлепает вхолостую, а мы базарим, — Георгий Зосимович Широкий — начальник пятого цеха — смотрит выше наших голов куда-то на стену. Он всегда смотрит выше, дальше, как подобает начальнику. Руки его в карманах коричневого нейлонового плаща, поблескивающего, словно чешуя. Лицо оплывшее, жирное. Он еще нестарый человек, что-то около сорока. Но «раскормлен, как боров под рождество». Это не мои слова, Люськины. Впрочем, боровом никто его не зовет. Широкий имеет три утвердившиеся клички — Румяный, Шмоня, Первый. Ну, Румяный — понятно, почему: щеки у Георгия Зосимовича будто у красной девицы — заря алая. Шмоня — от слова «шмон», которое, как пояснила Люська, на блатном жаргоне означает «обыск». Первый — Широкий всегда и везде стремится оказаться первым. Это не просто честолюбие. Это своего рода пристрастие, подобно тому, как бывает пристрастие к нарядам, папиросам, вину...
— Разговоры, пересуды! А время рабочее тик-тик-тик... — Широкий отодвинул рукав, посмотрел на часы.
Кто-то протяжно зевнул. Я оглянулась. Лица у девчат были незлобные, скорее любопытные. С такими лицами у нас в Ростокине наблюдают за ссорой соседок, за алкашом, которого подбирает милиция.
— План! Вы подумали о плане?! — Почему-то не своим голосом, возможно от волнения, выкрикнул Широкий.
— Я им говорил, — оправдывался Доронин. — Говорил: поймите, что план большой; помните, что нас мало...
— Нас мало, но мы не маленькие, — пошутила Люська Закурдаева, которая стояла впереди всех, чуть ли не лицом к лицу с Дорониным. Она вообще любила шутить. Но шутки ее часто бывали замусоленные, как старая колода карт.
— Вот слышите, Георгий Зосимович, весь и сказ... — возмущенно выложил Доронин. — А что с нее взять? Беспартийная она. И не комсомолка...
— Я член профсоюза, — напомнила Люська.
— Это точно! — повысил голос Широкий. — Это точно! Паршиво обстоит у нас в цехе с профсоюзной работой. Распустил ты их, Иван Сидорович. Старый уже. Хватил лет.
Сник сразу Доронин, обмяк, словно мяч, из которого выпустили воздух. Оправдываясь, сказал:
— Не драться же мне с ними.
— Побьют они тебя. Это точно! — нахмурился Широкий, хлопнул ладонью о ладонь. — Решение такое: немедля вниз за табуретками. В восемь часов всем быть у станков. Полчаса отработаете после смены. — Повернул голову к Доронину: — Зачинщиков записать. Прогрессивку срезать. Закурдаеву пиши первую.
— Я ее и так запомню, — сказал Доронин.
— Самодеятельность кончай! Запиши, чтобы все было чин чином.
Вновь посмотрел выше нас, на стену. Произнес укоризненно:
— Табуретками побрезговали, стульев мягких захотели... Эх вы!
— Все не так, Георгий Зосимович! — я говорила каким-то стеклянным, неживым голосом. — Дело не в табуретках и не в стульях. Нам обидно, что фабрика, вернее руководство фабрики, не уважает и нас, и наших гостей.
Позднее, когда я лучше узнала Георгия Зосимовича Широкого, я поняла, что в то суматошное весеннее утро, сама не понимая, с первых же слов сделала верный «дипломатический» ход, сказав, что, дескать, работницам обидно за руководство ф а б р и к и. Фабрики, но не цеха. И этим самым как бы вывела Широкого за конфликт. При болезненном самолюбии Георгия Зосимовича — это было большой удачей.
Широкий посмотрел на меня с любопытством. Я вдруг догадалась, что он благожелательно встретил мои слова.
— Как твоя фамилия, новенькая? — мягко спросил он.
— Миронова. Наташа Миронова.
— Так вот, Наташа... Руководство фабрики здесь ни при чем. Стулья забрал АХО, а точнее, его заведующий Ступкин. Стулья забрали не потому, что боятся, будто вы их просидите... Мало таких стульев на фабрике. Не хватает на все цеха. Не хватает... Оставят вам стулья, что скажут остальные?
— Как же можно наш цех равнять с остальными? — удивилась я. — Наш цех лучший на «Альбатросе», об этом каждый вахтер и пожарник знает. — Я искренне верила в правоту своих слов. Мне еще не было восемнадцати.
Лицо Широкого расплылось в улыбке, как блин на сковороде. Но глаза стали узкими, точно прорези.
— А что, Доронин, новенькая дело говорит. Как тебя?
— Миронова.
— Верно, Миронова, правильно подметила, наш цех не ровня остальным. Гордость у нас должна быть своя собственная. И прямо скажу, в порядке самокритики, Ступкин — мужчина прижимистый. Я же в пятницу не проявил должной настойчивости. Поправить бы это надо, Доронин.
Иван Сидорович несколько пришел в себя. Потер затылок:
— Серафима Мартыновича Ступкина поправлять трудно. Он чуть что — в дирекцию бежит. Ежели только через массы. Фельетон, допустим, написать.