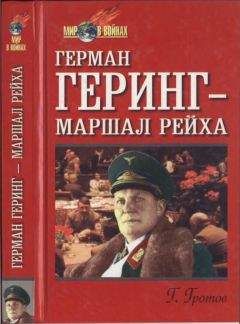— Говорим только мы, — сказал Олеанес, — мы очень много говорим сегодня. Я прав, не так ли, Франсиско? Я очень… как это? Очень хотел, чтобы сказал мой новый друг Володя… Товарищ Володя…
Рокотов поднялся:
— Мой отец погиб при штурме эшелона, в котором фашисты вывозили русский чернозем… — тихо сказал он. Игорь, наклонившись к Франсиско, переводил. — Они хотели увезти нашу землю, пусть крохотную ее частицу, но увезти к себе в рейх… Я знаю цену земле. Где бы, в каких частях света она ни лежала. Я не видел Чили, хотя читал об этой стране много. Но я уже люблю ее, потому, что вижу чилийцев. Увезите к себе домой нашу любовь к вашей стране. Мы хотим того же, что и вы, чтобы все на земле было хорошо, чтобы все были счастливы и чтобы никогда на нее не лилась человеческая кровь.
— Это хорошо… Это очень хорошо, — после длинной паузы сказал Виктор, — вы говорили… как это… вы говорили как поэт… Спасибо. Я скажу в нашей стране об этих словах. Я даже напишу обо всем. Мы знаем, что у нас много миллионов друзей на этой русской земле… Если б я мог всем сказать спасибо!
Франсиско медленно вылез из-за стола, подошел к Рокотову. Тот встал тоже. Они постояли друг напротив друга, потом Франсиско вдруг взял Рокотова за плечи и обнял его. Он сказал только одно слово, и никто не стал переводить его, хотя оно было и сказано на чужом языке:
— Компаньеро…
В этом слове было все: и благодарность, и любовь, и обещание. И четверо мужчин, стоя, выпили вино, и каждый знал, за что пьет.
— Устал, — сказал Игорь. — Наверное, в этом главная причина. Собирался в отпуск дней через десять, а тут дела обнаружились. Придется месяца на два отложить.
Они медленно ходили по перрону вокзала, и Рокотов ловил себя на мысли, что Игорь чего-то недоговаривает. Время от времени он совершенно решительно начинал фразу и тут же сбивался на паузы, которые становились все длиннее и длиннее, пока наконец не наступала томительная тишина, и каждый из них не торопился ее нарушить.
— Ты сам создал себе всяческие сложности, — Игорь отошел к киоску, купил «Известия», вернулся к ожидавшему его Рокотову. — Если она колеблется — дело мертвое. И не сбрасывай со счетов семью… Это ты — холостяк — перекати-поле. У нее дочь, муж… Все не так просто.
— Я не говорю, что просто. Когда-то у нас был разговор. Я решил сам для себя — с этим кончено.
Игорь хмыкнул:
— Он решил… Счастливый у тебя характер, родственник. Чего там философам всех времен тонны бумаги на трактаты о человеческих слабостях тратить? Товарищ Рокотов все уже определил для себя. Все. Нет проблемы неразделенной любви, нет ничего, что мешает человеку гармонично развиваться в условиях счастливого эгоизма… Я бы этих рационалистов… А Михайлов-то, наверняка, в курсе всех дел?
— Дел не было… Были разговоры, сцены… Уговоры были. С моей стороны, конечно. Предлагал бросить все и уехать.
— Ну и что?
— Сказала, что подумает.
— Как же тебе с Михайловым-то работать?
— Как полагается. Дело есть дело.
Вспомнился Рокотову разговор с Дорошиным года три назад. Грузный, басовитый ввалился тогда Павел Никифорович к нему в кабинет, схватился за телефонную трубку, выругал железнодорожного диспетчера за то, что не дает вагонов под руду, потребовал у Рокотова квасу:
— Слыхал я, что держишь у себя квасок… Угости.
И когда принесли жбан, вдруг сказал:
— А с михайловской женой штучки-дрючки кончай… Баловство это. Раньше зевать не следовало. А упустил — сиди и не рыпайся. Рвать людям жизнь — самое хреновое дело. Ишь, соблазнитель сыскался. Гляди.
Не то, что сказанное Дорошиным было тогда для Владимира откровением, вдруг осенившим его, нет, все по было миллион раз обдумано и взвешено, но не хватало в оценке его взаимоотношений с Жанной немного дорошинской насмешливости. Будто вот так взял и приколол его как подопытного кузнечика булавкой к доске для всеобщего обозрения: вот, дескать, ловкач, на ходу подметки рвет. И сразу ослабела степень трагичности во всей этой истории и будто оказалась она освещенной с другой, совершенно неожиданной стороны, и его роль, роль обиженного судьбой и обстоятельствами страдальца, который вправе ждать от всего остального человечества лишь состраданий и участия, вдруг оказалась совершенно иной. Будто кто-то показал ему, Рокотову, себя со стороны — и зрелище это было больше смешным, чем трагичным.
Вот в чем свойство дорошинского характера. В умении не только увлечь за собой людей, навязать им свою волю и психологию, но и в способности показать твои собственные поступки как бы со стороны. А в истории с Жанной Дорошин был в одинаковой степени заинтересован как в Рокотове, так и в Михайлове. Ведь Дмитрий Васильевич тоже начинал когда-то с дорошинской «мыслительной».
С того самого разговора и кончились его звонки Жанне. А когда звонила она, Рокотов говорил с ней таким суховатым официальным голосом, что ее оптимизм тоже стал остывать заметными темпами.
Правда, после этого Рокотову стало казаться, что Михайлов некоторое время поглядывал на него со скрытой усмешкой, но это уже, пожалуй, от мнительности. Отношения между ними складывались ровные, и когда, после пленума райкома, члены бюро подошли, чтобы поздравить Рокотова с новыми обязанностями, Михайлов был первым.
— Я полагаю, мы сработаемся, — сказал он, и глаза его под очками искали в лице Рокотова ответ на этот полувопрос.
Владимир тогда обнял его за плечи:
— Убежден в этом, Дмитрий Васильевич.
Вечером они сидели рядом на банкете, который давал Дорошин в честь Рокотова. В просторной дорошинской квартире собралось около тридцати человек. Было шумно: Дорошин читал басни Крылова. Делал он это мастерски, голосом выражая речевые оттенки каждого персонажа, а потом вдруг повернулся к Рокотову и сказал совершенно серьезно:
— Я очень надеюсь, что новое руководство районного комитета партии с пониманием отнесется к решению важнейшей государственной задачи: расширению объемов добычи руды… Сегодня мы отправили в Москву кое-какие бумаги по новому месторождению, Сладковскому. Давайте выпьем за будущий Сладковский карьер, за миллионы тонн богатейшей руды, которые мы там добудем!..
И потянулся к Рокотову с рюмкой.
А Владимир думал о том, почему Дорошин не пригласил на этот праздник Логунова. Ведь они все втроем сидели рядом в президиуме. Именно там Дорошин написал и пододвинул Рокотову записку: «Володя! После завершения пленума прошу ко мне домой, для отработки пятого пункта повестки дня». Потом выпил воды и пододвинул какую-то записку Логунову. Тот прочел, кивнул головой. Рокотов так и думал, что это приглашение. Уже у Дорошина дома спросил хозяина:
— Павел Никифорович, а что, Логунова вы тоже пригласили?
Дорошин оглянулся по сторонам и вдруг пробасил на манер оперного певца:
— Пусть проигравший плачет… — И пояснил: — Слушай, это ни к чему… У нас праздник, а человек этого понять не сможет. У него траур.
А Рокотов вспомнил о том, как за кулисами после выборов к нему подошел Логунов. Пожал руку, поздравил.
— Ну что ж, желаю тебе всего самого доброго, Владимир Алексеевич. И хочешь совет старого партийного работника?.. А совет такой. Всегда и во всем имей свое собственное мнение. И отстаивай его. Не обещаю в этом случае тебе райскую жизнь, но зато хоть сам себя уважать будешь.
И, круто повернувшись, ушел, даже не услышав ответа Рокотова.
— Рано мы пришли на вокзал, — сказал Владимир. — Можно было бы побродить по Москве.
— Суета, — Игорь закурил, — На вокзале и в аэропорту я только и чувствую себя человеком… Ощущение предстоящей новизны, ощущение будущих впечатлений.
— Бродяга ты…
— Точно… Горжусь своей принадлежностью к этому племени. А ты в будущем великий деятель., Ты даже улыбаешься как старичок: обстоятельно и сурово. Кому сказать, в тридцать с хвостиком… Да я бы на твоем месте еще в джинсах на работу ходил.
— А ты на своем сходи…
Игорь махнул рукой:
— Устаю я от тебя, родственник… Устаю. Совершенно рациональный ты человек. Жутко. Рациональный человек в рациональное время. Ошибки-то хоть не разучился делать? А то ведь можешь и до такой жизни дойти.
— Послушай, — сказал Рокотов, — я о Логунове… Они ведь дружили с Дорошиным. Дружили. И домами даже.
— И что?
— Потом что-то произошло.
— Хочешь, я тебе скажу?.. Дорошин — руководитель. Это бесспорно. Он может горы свернуть. У него — масштаб. Он оперирует государственными категориями. А Логунов мыслил категориями района. Логунов мыслил просто: под вскрышу и для отвалов идут тысячи гектаров отборнейшего чернозема. А сколько миллионов кубометров складируется? Миллионов тонн… Ты вдумайся… У ваших карьеров громоздятся горы этого бывшего чернозема. А ты знаешь, для того чтобы образовался один сантиметр чернозема, нужно сто лет… Дорошину такие мелочи ни к чему… Ему требуются тонны, миллионы тонн руды… А Логунову хотелось, чтобы как можно меньше чернозема Дорошин пускал в отвалы. Земля нужна для того, чтобы родить, чтобы кормить людей… Вот об этом и думал Логунов…