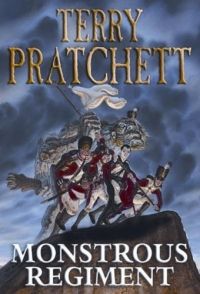Глаз не поднимает, губы сжаты, лицо заспанное и недружелюбное – «командирша»! Но кто-нибудь, кто постарше, подобрее, окликнет ее или поздоровается – она вздрогнет, вся закраснеется испуганно-радостно, а узенькие приподнятые плечи так и ходят, борясь с неловкостью, смущением.
Но когда Косач в лагере, забывает она и про нас, и про себя. Видит только его. Как дрожит тень, ловя настигающий ее луч солнца (вот-вот посветлеет, растает в нем), так вспыхивала, светлела она, если поблизости был Косач.
Мы собираемся на операцию, общее построение отряда на заросшей мелким кустарником поляне. Все стоят, только мы, ездовые, сидим на тачанках. Высоко, нам все видно. Несколько комиссарских слов говорит перед строем Шардыко. Сколько помню его, всегда он ходил с перевязанной рукой или забинтованной головой: очень старательно отыскивали пули это маленькое подвижное тело. Костя-начштаба однажды объяснил, отчего так получается:
– Шустрый ты очень, комиссар. За всех везде поспеть хочешь. По дождю бежать – все капли соберешь: и свои, и не свои. Привык в колхозе – от окна к окну. Нет, пусть каждый свое сам знает!
Косач слушает комиссарову речь, опустив голову, о чем-то думая или просто дожидаясь, когда надо будет давать общую команду.
Глаша среди хозвзводовских и легкораненых ждет, я вижу, как она ждет его взгляда. (Я даже злился на него порой, так она ждала, а он сердито не замечал этого.) Наконец поднял голову и посмотрел в ее сторону. Неосторожно долго глядел, о чем-то своем думая. Перевел глаза на комиссара. Но было уже поздно: Глаша, как позванная, двинулась к середине поляны. И, как нарочно, на ней то самое платье – нелепо длинное, шелковое.
Весь отряд наблюдал за странным ее, лунатическим движением. Комиссар замолчал и неодобрительно взглянул на Косача. Костя-нячштаба засмеялся, сказав что-то.
Я обмер, наблюдая, как Глаша идет к середине поляны, не замечая ни внезапной тишины, ни мрачного за усмешкой лица Косача. Но вдруг заметила, словно острого коснулась. Остановилась, огляделась в ужасе, как человек, обнаруживший себя на ушедшей от берега льдине. Косач отвернулся, а она побежала в лес.
Если я что и любил в ней в ту пору, то именно эту ее влюбленность в Косача. Отраженно, так сказать.
В детстве вот так же отраженно влюблен был в брата своей одноклассницы. Он был для меня живым слепком, повторением своей сестры. Те же глаза, тот же рот, а ты не робеешь – смотри, сколько твоей душе угодно. Мальчишки изводили безвольного и плаксивого сына приезжего учителя, а я опекал его, защищал. Он же, чувствуя мою непонятную от него зависимость, в свою очередь меня тиранил, капризничал. Но это делало его еще более похожим на сестренку и еще больше привязывало меня к нему. С ним я мог как бы ненароком назвать имя той девочки, вслух произнести при всех, главное, вслух – в этом было все дело, особенная сладость.
Вот так, кажется, и Глашу вначале воспринимал. Почти так. Но она не замечала тайной, заговорщицкой доброты моей, опеки, нашего тройственного союза не замечала. До самой встречи на той поляне, где красные кузнечики разлетаются, брызжут из-под ног.
* * *
… Эти искры, эти быстрые точки на черном экране моей слепоты – иногда мне кажется, что это не осколочки боли, что они оттуда, с нашей поляны. На поляне я бывал и прежде, и не раз искал своего Геринга, но красных кузнечиков не замечал, хотя, конечно, они там были все лето.
А лето уже на исходе, влажный и теплый лес пропах грибами, черникой, жирной гнилью, как старый погреб. Постукивает дятел. Сначала почудится – далекий пулемет. Вслушаешься – нет, близко, дятел старается. Бой будет не сегодня, а только к утру. Непосредственный мой начальник Сашка сидит в лагере, смазывает пулемет, моя же забота – лошади, телега. Что-то серьезное, раз пойдут тачанки. В кустах через поляну вижу серую спину нашей пристяжной. Значит, и Геринг где-то здесь. Я занялся орехами. Их столько завязалось, что можно вслепую, на ощупь рвать: нагнешь ветку и комкаешь суховатые, покалывающие ладонь листья, пока не нащупаешь твердую тяжелую гроздь, гронку. От зеленой ореховой мякоти во рту кисло и прохладно…
Орешник сначала затащил меня в темную лесную чащу, а затем вывел, вытолкал на поляну уже в другом ее конце.
И тут я услышал плач: женский, потом детский…
Я уже вижу лежащую под дубом Глашу, ее вздрагивающую под черным шелком узенькую спину, а сам все недоумеваю: но где же плачущий ребенок? И тут ее глухое женское рыдание перешло в детское всхлипывание. Лежит под дубом на жестких, выпирающих из земли корнях-ребрах женщина в длинном шелковом платье и захлебывается детскими слезами. Сапожки поставлены у изголовья, и на них аккуратно развешены, сушатся портянки. А босые ноги сердито вздрагивают от комариных или муравьиных укусов.
Глаза мои жадно и испуганно рассматривали женскую белизну, мертвенно проявленную черным шелком. Глаша вдруг села, поджав ноги, и схватила сапожки.
– А, это ты… – сказала, точно всего лишь Геринг из кустов выломился.
– Коня ищу, – объяснил я свое существование на свете. Как аккуратно сапожки стояли возле нее, плачущей!
Уже после войны Глаша вспоминала: «Иду через весь лагерь, разговариваю, если кто затронет, смеюсь, хохочу, но сама иду плакать. Уже лагерь позади, никто меня не видит, но я все не плачу, спешу на свою поляну, к дубу. Добежала, стаскиваю сапоги, устраиваюсь, портянки развешиваю просушить – все, теперь удобно, хорошо! – и, наконец, даю волю слезам, долго удерживаемым, а потому сладким».
* * *
То, что испуганная, заплаканная Глаша почти дурнушка – губы распухли, глаза потухшие, сердитые, – меня очень трогает. Точно ради меня подурнела, потускнела специально, чтобы мне проще было с нею, легче. Благодарный за такую щедрую, добрую ее некрасивость (даже носом хлюпает, как пацан), я стою, не ухожу, развлекаю ее соображениями насчет завтрашнего боя. Значит, крупный гарнизон, раз мы с тачанками идем! Это хорошо, что силу покажем. Давно про блокаду новую поговаривают (осень, за урожаем полезут), а отряд наш на самом выступе партизанской зоны. Надо раздвинуть этот выступ, и вообще засиделись…
– Я не хожу на операции, – говорит Глаша, не дослушав моих рассуждений, – я же командирша!
Смотрит, точно это я обозвал ее так.
– Ну и дураки!
Я охотно согласился. Само собой, ясное дело…
– Ну и можете целоваться со своим командиром. А у меня будет ребеночек. Хоть тресните все от злости!
Я испуганно покосился, точно это сейчас произойдет. Что-то во мне такое, в долговязой и вялой моей фигуре, благодаря чему Глаша меня совсем не стесняется.
– И правильно, – радуюсь я, – это вы здорово придумали. Война окончится, а у вас…
Я мог бы сказать «у нас»: я охотно принимал ее к нам, в тот фантастический мир, где мы с Косачем задушевные друзья и нам Глаша не помеха.
– «Здорово придумали!» – передразнила Глаша мой восторг. – Дурачок ты.
Но смотрит так, точно просит еще раз повторить мою глупость. А я на это скор:
– Будешь мама!
Словом этим я как ударил ее: вдруг мучительно покраснела, отвернулась, схватилась обувать сапоги.
– Да, командир наш, конечно… – волоку я и подаю Глаше кончик оборванного разговора. – Война пройдет…
– Думаешь, я не знаю, что у вас в каждой деревне по «теще»?
И снова – как ударилась ушибленным местом, даже застонала. Поднялась и пошла через поляну. А я все никак не могу оставить этот разговор, по-дурацки волоку его следом за нею, говорю, говорю. Глаша молчит почти враждебно, и я тоже замолкаю наконец.
Она впереди, я шагах в десяти сзади, идем меж старых, осевших штабелей. Теплая кислая гниль щекочет ноздри. До войны тут заготавливали дрова. Березовые, осиновые, грабовые плахи догнивают, слежавшиеся, слипшиеся, облитые мыльной пеной.
Меж штабелей толстый ковер из молодого, плотного, стелющегося грабняка. Брось камень – подскочит, как на резине. Глаша ступает медленно, задумчиво. Грабняк такой плотный, что приходится балансировать на одной ноге, отыскивая местечко, куда поставить другую, и от этой, наверное, позы ей делается все веселее. Опять балет, как тогда с ведром.
– Смотри, розовое! – говорит про зубчатолистый стелющийся грабняк. И правда, весь обрызган краснотой. В накалившейся сухой тени этого зелено-румяного ковра прячутся кузнечики лесные. Целый костер их взлетает из-под наших ног, пролетев, падают на зубчатые листья с сухим звуком и тут же гаснут. На моей ладони лесной кузнечик, как дотлевающий, подернутый серым пеплом уголек. Глаша забрала его, посадила на свою забавную узкую руку. Позволила ему выстрелиться и смотрит, как вспыхнул искрой и погас на зелено-розовых листьях.
Я стал вслух соображать, что, возможно, они приспосабливаются. Война, пожары – вон сколько все это тянется, уже и не надеются, что кончится. Мы и сами думали – раз, и все!
– Они, может, один день живут, – возразила Глаша, – что они помнят!