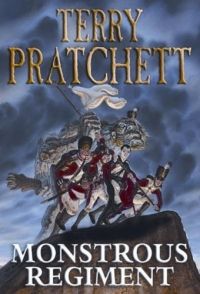Я стал вслух соображать, что, возможно, они приспосабливаются. Война, пожары – вон сколько все это тянется, уже и не надеются, что кончится. Мы и сами думали – раз, и все!
– Они, может, один день живут, – возразила Глаша, – что они помнят!
Тогда я стал за них огорчаться: вдруг в дождливый день родился, только тучи и увидишь! Даже не будешь знать, что небо бывает чистое, синее-синее…
Глаша поймала мой вороватый взгляд, смотрит насмешливо-поощряюще, точно я не подумал лишь, а вслух сказал про ее глаза. Отвернулась, засмеялась:
– Какой ты смешной! Особенно на тачанке своей. Немцы от смеха мрут.
(Вот что в Глаше меня особенно поражало тогда. Бывало, окружат ее хлопцы, посмеиваются друг над другом, над нею, а она, как тонкий стебель на ветру: длинные руки, вся ее пряменькая фигурка по-девичьи вырываются из-под наших взглядов, вздернутые плечи так и ходят – какой-то восточный танец смущения.
Но синие глаза неожиданно смелые, смеющиеся. В них радостное сознание силы, которая собрала и держит нас возле нее, женской власти над нами.
В Глаше и потом это оставалось: девичья неловкость, смущенность движений и смелость синих, знающих свою силу глаз.)
Почти тридцать лет до той зелено-розовой поляны. Но сколько раз я возвращался туда. В снах… От красного дождя кузнечиков вдруг начинает тлеть земля, мы с Глашей растерянно оглядываемся, не зная, куда поставить ногу, а потом бежим назад, а над нами, гремя, как поезд по мосту, катится по вершинам леса волна огня, обсыпая нас горячими искрами… Проснешься – долго не можешь понять, откуда и куда ты вернулся, все силишься открыть глаза…
Когда человек теряет зрение, первый ужас – не можешь открыть глаза, все силишься, а не можешь. Это состояние без конца повторяется в снах. И одновременно другое мучение: закрыть тоже не можешь. Навсегда открыт, один на один с миром! И с самим собой, со своей памятью…
Я иду след в след за Глашей, смотрю, как из-под ее сапожек и моих негнущихся сапог выстреливаются вспыхивающие и гаснущие искры, слушаю жесткий звук листьев, и сам я – как звучный, легкий, веселый барабан. И я знаю, что бой (и, может быть, ранение, смерть) будет только утром – целая вечность впереди!
– А что это за имя – Флера? – спрашивает Глаша, обернувшись так, чтобы самой стоять, а ее взрослое платье еще двигалось бы вокруг ног. Ноги у нее длинные, прямые, и это с платьем у нее хорошо получается.
Я сообщаю, что значит «Флера» (читал в календаре).
– Цветок? – Глаша смеется. Я тоже смеюсь. Ничего себе цветок: с этими обезьяньими дугами у растянутого улыбкой рта, в этом мешковатом немецком мундире с отвисающими штанами, который я выменял у разведчиков на свое домашнее пальто. – Дай я выстрелю. – Глаша уже смотрит на мою винтовку.
– Тут запрещено, – весело предупреждаю я, снимая с плеча винтовку, – приказ Косача.
Имя это прозвучало вдруг незнакомо, как бы даже с издевкой, и я, точно споря, сказал скучным голосом:
– И правильно. Скоро в лагере будут пулять.
Глаша не слушает, оставила мне одному возможные неприятности. Целится в дерево понизу. Я быстро приподнял ствол винтовки.
– Прижми к плечу, – взял за плечо и локоть, чтобы показать, как надо. И словно ожегся о скользкость шелка.
– Я сама.
Повела винтовкой, как зениткой, и наконец выстрелила. Вернула мне винтовку, засмеялась.
– Бедный, опять на гауптвахту.
– Это еще надо доказать.
Я уселся на пенек, вытащил шомпол, поискал в своей сумке от противогаза бутылочку с маслом.
– А как ты нашел поляну? – Глаша прогуливается передо мной, сбивая ногой мухоморы, которые восторженно пылают среди серо-зеленых осин.
– Как-как? Трудно разве?
Она столько раз, наверное, бегала сюда плакать, что считала поляну своей тайной.
Вечером мы уходили из лагеря, чтобы к утру окружить гарнизон. Какой, узнаем на месте. Но от этого еще сильнее то сдвоенное чувство, с каким обычно собираешься, идешь на боевую операцию. Ты и кто-то там (еще не знаешь, где и кто) уже связаны – вам убивать друг друга. И оттого, что ты знаешь про это, а он еще нет, ты и за него представляешь: как услышит первые удары выстрелов, как испуганно вскочит… Тебе самому так знакомы и эти оглушительные, как удар в дверь, первые выстрелы и странное чувство облегчения перед наступившей наконец опасностью: «Вот оно!..»
Когда отряд, выстроившись, слушал комиссара, я снова сидел высоко на тачанке позади своего взвода и смотрел, ждал, как Глаша подойдет к Косачу. Но он сам подъехал на лошади к тем, кто толпился у края поляны. Что-то говорил, а у нее лицо было влюбленно-бледное.
* * *
… Совсем затих наш автобус, дрема придавила даже Костю-начштаба. Один мой Сережа не умолкает: старательно рассказывает, что сейчас за окном, мимо чего проезжаем. Вдруг засмеялся, воскликнул:
– Ой, папка, а в твоих очках все поперек движется… Ой, заяц, заяц! В клевере, смотрите!
– Э, не-е, в гречихе, – прозвучало в сонной тишине.
* * *
… В том бою меня контузило. Отряд наступал на железнодорожную станцию со стороны речушки и луга, поросших кустиками березы и ольхи. Долго дожидались рассвета, прячась в ложе речушки, туда же нашу тачанку спустили. Ровно в пять без стрельбы бросились к огородам, над которыми, словно крепостная башня, темнела кирпичная водокачка.
Наш ротный, Илья Ильич, перед самой атакой предупредил:
– Держите каланчу под прицелом. Жлоб буду, если там не сидит с пулеметом! Вот, пусть побудет с вами.
И кинул нам на телегу книжицу Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
Мы повернули лошадей так, чтобы невысокий берег закрывал, прятал хотя бы их, и остались один на один с башней.
Уже застучали выстрелы – бой начался. Плывущая в предрассветном тумане башня внезапно заиграла, задразнилась красным язычком – пулемет! Сашка сразу завязал с нею дуэль. Сначала немец нас игнорировал, бил по наступающим. А Сашка никак не мог хорошенько приноровиться, приказывал мне то так, то этак повернуть лошадей. Наш «льюис», высокий, как велосипед, закреплен на станке от «максима» – не очень удобный гибрид: ни лежать за таким, ни сидеть, разве что по-турецки. И щита у нас никакого. Наконец Сашка приспособился, и «льюис» загундосил басовито, по-бульдожьи. Прожевал всю ленту – плоскую вафлю. Я подал новую, помог вставить в окошко-прорезь. И тут нас достало, но пока что сзади, по воде, словно камешки сыпанули. Сашка снова «натравил бульдога» (мы так называли свою стрельбу), я держу наготове еще одну полуметровую ленту на ладонях, как официант. Больше мне делать нечего, разве что считать камешки на воде, танцующие вокруг нас. Вдруг появилась на воде красная змейка, неторопливая, гибкая, все удлиняющаяся… Не сразу сообразил, что это кровь. Быстро (мысленно) ощупал себя всего. На Сашке тоже ничего не заметно. Лошади стоят спокойно-безразличные, но Геринг все опускает храп к воде, как бы ловит губами красную змейку. А она все растягивается, изгибается по течению и не может оторваться, уплыть от нас.
– Быстрее! – кричит Саша. – Быстрее! Пришьет он нас.
Стрельба то нарастает, то вдруг спадает, но уже ясно, что случилось самое паршивое: мы их не смяли с налету, теперь все зависит от боеприпасов и времени, у кого больше. У нас меньше и того и другого.
На огородах мины ложатся одна на одну, нам видны черные верхушки взрывов. Топчут, втаптывают залегшие там цепи, просто стонать хочется. Сашка снова пустил трассу пуль в черное окошечко башни, которая с каждой минутой все больше открывается, из темной делается кирпично-красной.
Сразу ощутили – есть, достал немца!
– Давай еще одну! – кричит Сашка и от удовольствия локтем, рукавом трет свой вспотевший веснушчатый нос и стриженую лишаистую голову. – Я его доколочу.
Я показал четыре пальца – столько лент осталось в ящиках. Бухая по воде, кто-то бежит за кустами. Адъютант Косача.
– Вы что тут?! Командир приказал туда, на тот край… к лесу… на фланг! Давай быстрее!
Но «наш» немец снова ожил – осыпанный камешками Женька припал к телеге у моих ног.
– А это видал? – заорал на него Сашка. Он добрый-добрый, а заводится с пол-оборота. Он у нас старый партизан, вместе с Косачем пришел в отряд, было время нервы измочалить! Снова нажал на гашетку, «бульдог» гулко и четко отсчитал десять патронов, почти пол-ленты прожевал.
Я показал Женьке, что у нас мало патронов.
– Давай! Косач приказал, – не взглянув даже, крикнул он и побежал. А немец снова сыпанул, слышно, как ударило в колесо прямо под нами.
– Ладно, поехали, раз приказывают! – кричит Сашка.
Перезаряжали пулемет, когда налетел Косач. Это был уже Косач.
– Вы что? В небо? Ах вы!..
Никогда я не видел так близко это крупное и в то же время резкое лицо. Резким его делают две глубокие, как шрамы, борозды, падающие по щекам от глаз к подбородку. И глаза. Особенно глаза, яростные и все равно усмехающиеся, беспощадно увидевшие меня, наконец именно меня увидевшие, признавшие.