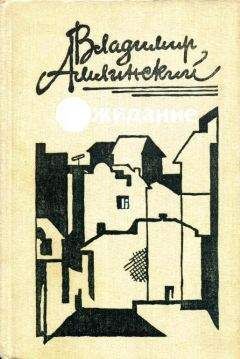Это не значило, что Иван никогда не дрался. Приходилось, что поделаешь. Самые большие драки были давно, в первых его сроках, в первых колониях, в беспокойной юности. Тогда в этом мире царила «беспредельщина», и люди дрались часто насмерть из-за табака, из-за мыла, из-за зубного порошка, которым тоже, оказывается, можно было одурманить голову. Тогда не смотрели, малолетка ты или нет. «Хочешь жить — умей вертеться». Он попал сюда, узнав войну, лагерь под Эрфуртом, брюшной тиф, когда его чуть не пристрелили, но выходила толстая немка Бауэр, которая потом, когда все кончилось и наши были в городе, просила у него хлеба и защиты, как у авторитетного человека. Он достал ей хлеба и тушенку, у него все тогда было, потому что Ваню-пацана знали в округе все и никто не отказывал ему — ни свои, ни союзники. Это были лучшие дни его жизни — дни после освобождения, когда он был одновременно мальчик, солдат и победитель.
Счастливый он возвращался на родину. Мать отыскала его, привезла в полуразрушенную Оршу. Когда она увидела его и кинулась к нему, плакала, целовала, обнюхивала его, он молчал… Ему было как-то стыдно, что мать на людях вот так убивается, ведь он же живой.
А с другой стороны — ему было страшно идти с нею по многолюдному вокзалу, казалось, он потеряет ее в толпе, и все — больше никогда не увидит!
Не думал он тогда, что потеряет ее, но по-другому…
Одиннадцати лет от роду он отправился в школу во второй класс. К тому времени он неплохо понимал по-немецки, но деньги считал по пальцам и не умел писать.
«Один мальчик собрал пять шишек, другой девять шишек, третий на пять шишек больше их обоих», — диктовала учительница…
Какая ель, какая ель — какие шишечки на ней!
Он не мог сидеть с этими потными, сопливыми пацанами, которые жадно ели бублики на переменках, стучали медяшкой в расшиша и старательно писали: «Б, Е — бе». Они это проходили, а он через э т о уже прошел. Он прошел мимо, стороной, у них была своя компания, у него своя. Он был переросток. И учителя не знали, что с ним делать, некоторые из них малость его побаивались.
«Ваня, может, мы к тебе прикрепим Толю? Он поможет».
Приходит Толя и начинает: «На одной ели висели три шишки, на другой…» Мальчик старательно объясняет, а Ваня улавливает только окончания слов, сами слова будто протекают сквозь него, как вода сквозь растопыренные пальцы.
«Вань, покажи медаль», — тянет уставший от Вани Толик.
«Щас», — легко соглашается Иван.
И они оба рассматривают Ванину медаль «За отвагу».
«А пистоль мой, «вальтер» видел?» — заводясь, говорит Ваня.
«Не-е», — бледнея, говорит Толик.
«Щас, — говорит Иван. — Сделаем. — И лезет на чердак. — Щас, Толик, постреляем немного».
Но это обман. У Вани нет «вальтера». И не было никогда. И в отряде Ваня только несколько раз держал пистолет в руке и четыре раза выстрелил в воздух. Но он запомнил навсегда приятную тяжесть черной аккуратной игрушки с рифленой, как шоколадка, плоской рукоятью. Впрочем, если очень захотеть, то можно и достать кое-где. У него есть дружки фронтовые, у которых кое-что оставлено при себе, про запас. Учиться он не мог, учился плохо, невнимательно, без интереса, был он старше всех по возрасту в классе, сидел тихо, только иногда, если его разозлить, ругался страшно и непотребно и плохо действовал на ребят…
К старшим тянет Ваню, к взрослым, с ними есть о чем поговорить, есть что вспомнить. Среди одноклассников он как волчонок среди домашних щенков. Он их и по возрасту старше — старше на годы войны и плена. И неохота ему гонять весь вечер с ребятами консервную банку на пустыре или тряпку, туго свернутую в мяч. Он идет к своим товарищам, к инвалидам Великой Отечественной, сидит у них в гостях, идет с ними «на уголок» и знает тот час, ту минуту, когда, отбросив костыль и впившись в его плечо руками, кто-нибудь из них замотает головой в муке, в тоске и заплачет или запоет: «Стоял солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд…» А иной раз поднесут Ивану кружку пива или полстаканчика беленькой, и голова закружится одновременно горестно и блаженно, и тоже захочется плакать или петь. А когда придет, припозднившись, домой, мать начнет ругаться, и кричать, и грозить: «Вот я к директору завтра пойду», — а он скажет ей тихо, внятно: «Положил я на твоего директора», — и ляжет на кровать, скинув ботинки, но не сняв тужурку и штаны, так как привык спать одетым.
Так прошло два года. Его уговаривали, стыдили, просили, оставили на второй год в третьем классе. Он был безучастен ко всему, что делалось в школе. Жизнь его была не здесь… Вечера он стал проводить с темными типами, с наглыми огольцами, которые хвалились тем, что могут достать денежки в любой момент, и не просто одну бумагу, а много, столько, сколько им надо. Они и послали его в магазин с подделанными продовольственными карточками: «Ты фронтовик, оголец, если тебя и наколют — ничего не сделают. Ничего тебе не будет…»
Тогда ему действительно ничего не было… Обошлось на первый раз…
И Ваня подумал, что и в другой раз обойдется. Глупый был Ваня, молодой.
А в другой раз взял Ваня в школе большую вазу, хранившуюся под стеклом, переходящий кубок области за спортивные достижения.
Начали искать кубок, вся школа всполошилась, а кубок тот серебряный давно уж Ванины дружки пропили.
Теперь уж по второму разу мало кто за него заступался. Теперь уж и медаль его не спасла. Знали его в городе теперь как шпану.
Были у него и всякие драчки, и пьянки, и приводы, и школа больше не верила в него. Да и он сам не верил, что будет учиться.
И как мать ни старалась, как ни убеждала, что больше он не будет, — на этот раз убедить не удалось.
Получил срок. Отправили в детскую колонию.
«Он нуждается в воспитании наказанием, — говорили матери. — Только наказание сделает из него полноценного члена общества».
Перед отправкой в колонию он прошел через детприемник. В камере было тридцать — сорок пацанов.
— Давай знакомиться, керя, — шепелявя и дружески улыбаясь, обратился к нему бледный парень с круглой аккуратной плешкой на стриженой голове, видно от лишая. Он все время щурил глаза, будто на него лампу наставили.
— Имя мое — Иван, фамилия — Лаврухин, а кличка у меня Партизан, — важно и серьезно сказал Ваня.
— Где же тебя так накликали? — улыбаясь и все время щурясь, с интересом и симпатией рассматривая Ивана, спросил плешивый.
— В Эрфурте, — ответил Иван, — в пересыльном лагере 22/30.
— Ишь куда занесло, — сказал плешивый и присвистнул. — Только, Ваня, будь добр, забудь свою прежнюю кличку, к здешним условиям она не подходит. У вас, в Париже, — одно, у нас — другое. — Он покачал пальцем перед Ваниным носом.
— Почему в Париже? — раздраженно сказал Ваня. — Я же говорю, в Эрфурте.
— Ну, какая разница, керя, где ты был. Мы тут тоже много ездим… Вот, например, ты можешь ответить, где ты сейчас находишься?
— То есть как?! — удивился Ваня. — Что ж я, дурачок, что ли? В пересыльном детприемнике.
— А где твоя постоянная прописка, Ваня, в данный момент?
— Моя под Оршей, — сказал Ваня, — в райцентре. А что такое?
— А то самое, что постоянная теперь недействительна. Так что надо получать временную.
— Да иди ты, — сказал Ваня, — что ты мне тут рога крутишь!
— Ваня, хоть ты и артист и на гастролях был в Париже или еще где, а без прописки, Ваня, нельзя жить в обществе. Никому нельзя. Беги сюда скорее, Ваня.
Ваня не двинулся. Тогда бледный огорченно посмотрел на Ваню и сказал своидо ребятам:
— Дурачок, сам не хочет. Придется его прокатить на велосипеде.
Ваня повернуться не успел, как человек десять, до того сидевших без движения, без улыбки, без звука, кинулись на него, заломили руки, раскорячили ноги и потащили его судорожно, по-рыбьи бившееся тело к плешивому. Иван изо всех сил вырывал ноги, и они как бы повторяли движения ног велосипедиста. Плешивый, громко и деловито считая, начал бить его по лицу. Видно, натренировался хорошо. Четко, звонко он бил и весело, деловито, без всякой злобы, будто всю жизнь занимался этой важной, необходимой работой. Сосчитав пятнадцать раз, он сказал:
— Прописан временно в двенадцатой камере. Что и удостоверяется печатью.
И он врезал Ване уже покрепче, напоследок, задержав и впечатав грязную ладонь в Ванин лоб и переносицу.
Парни чуть ослабили свои объятия, и Ваня кинулся на плешивого, чтобы ударить гада между глаз. Но пацаны тут же свалили Ваню на пол, и один шепнул ему на ухо:
— Зря обижаешься. Все прописку проходят, а ты что, особенный?
Они оттащили его на нары и положили как использованную, уже ненужную вещь.
Плешивый сказал, шепелявя и усмехаясь:
— Не обижайся, Ванюш, что мы тебя побуцкали. Закон есть закон. Без прописки, Иван, жить в дружном коллективе нельзя.