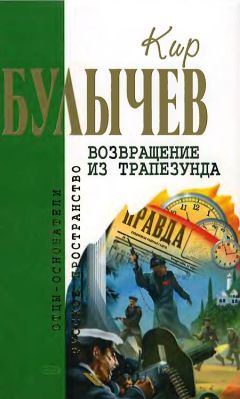Поднявшись во второй этаж, он постучал в дверь, не найдя звонка сбоку. Открыл ему сам Ваня и отступил, увидев отца.
Но тот был весел. Еще не снимая шапки, в пыльном солнечном луче весь золотящийся, он улыбался прищурясь и певучим, — как в детстве только слышал Ваня, — молодым голосом говорил:
— Не ждал — не гадал?.. Вот видишь, как иногда бывает!.. А я к тебе… с визитом!.. Потому что… (он снял шапку и в угол вешалки поставил трость) я сегодня почти именинник, как тебе… было когда-то известно… Гебурстаг мой сегодня, — день рождения… Стукнуло мне сегодня (он расстегнул пальто) — ровно шестьдесят лет…
— Как шестьдесят?.. — удивился Ваня, помогая снять пальто. — Пятьдесят семь только… или пятьдесят восемь…
— Уте-шил!.. «Пятьдесят восемь»!.. Оч-чень далеко от шестидесяти… Но я говорю себе: шестьдесят!.. Это чтобы привыкнуть к седьмому десятку заранее…
Когда, так балагуря в прихожей, разделся он и вошел в комнаты, Ваня увидел, что одет отец в совершенно новую дорогую пару и что бриллиантовая булавка — царский подарок, о котором он знал, у него в мастерски по-старому завязанном галстуке… Волосы на голове, обычно кудлатые, теперь были тщательно расчесаны и были еще пышны для его лет и придавали его широкому черепу вид совершенной несокрушимости, а борода была кованая…
Правда, был очень яркий солнечный день, и реки света лились в окна верхнего этажа, — все-таки Ваня проговорил удивленно:
— Ты нынче какой-то трисиянный!.. С тебя хоть портрет пиши для монографии!
— Что ж, и пиши, — отозвался отец. — Пиши — пиши… Полчаса тебе попозирую… Только мазок свой покажи сначала, — мазок и рисунок… А то, пожалуй, не сяду!.. Мазок и рисунок…
Старик имел такой парадный и такой снисходительный вид, что не видавшая его никогда раньше и принявшая его за какое-то очень важное лицо, посетившее ее молодого хозяина, большеносая Настасья, вошедшая было с тряпкой и щеткой половой, почтительно застыла у порога.
Но старик тут же обратился к ней:
— Послушай, милая Личарда, дай мне там стаканчик воды холодной!..
И Настасья, едва бормотнув: «Сичас!» — и бросив щетку и тряпку, опрометью бросилась на кухню за водой, тряся тяжкими грудями.
— А может быть, чаю? — догадался предложить отцу сын.
— Нет, только воды… А где же твоя мастерская?
Уезжая, Эмма забрала с собой свои трапеции, но крючки в балках потолка остались, и когда в мастерскую Вани вошел старик, он прежде всего в эти прочные крючья упер глаза, перевел их на Ваню, но тут же вспомнил, как «качалась» немка однажды вечером, когда он кричал мартовским котом, догадался, зачем крючья, однако сказал сыну по-прежнему серьезно и строго:
— Этто… этто… сними!.. Гадость какая!.. Сними, говорю.
И даже ноздрями передернул.
— Боишься, что повешусь? — улыбнулся Ваня: — Не собираюсь, не бойся…
И пока пил отец воду, принесенную Настасьей, смотрел на него Ваня, любуясь и улыбаясь и стараясь догадаться, почему именно он у него в мастерской и такой новый?.. Не потому же, конечно, что сегодня стукнуло ему пятьдесят восемь лет!
Отворяя дверь отцу, Ваня был со шпателем и палитрой в руке: он подмалевывал картину, стоявшую на мольберте, и теперь она, по-новому яркая, раньше других притянула старого Сыромолотова.
— Ого!.. Калабрия? — спросил он преувеличенно весело.
— Вроде, — ответил Ваня.
На картине спереди справа были развалины, а на среднем плане вел усталого, понурого осла усталый прожженный солнцем человек в широкой соломенной шляпе; на осле сидела, видимо, очень усталая женщина в белом, с грудным ребенком.
— Или бегство святого семейства во Египет?
— Похоже и на это, — улыбнулся Ваня.
— Этто… удалось, — да… Кое-где кактусы, кажется?.. Усталость хотел?.. Если хотел, — удалась…
— И вечер… солнце уж зашло… Так ты находишь, что усталость заметна?..
— А это? — присмотрелся отец к переднему плану. — Ого, какие глазища страшные!.. И лапы?.. Это что?.. Лапы?.. Это — зверь?..
— Вроде… Как раз только что я его хотел показать лучше…
— Помешал я, значит?.. Эх!.. — и старик слегка дотронулся до плеча сына.
— Ну вот, помешал!.. Я хотел немного еще его показать… А много нельзя: ведь оно в сильной тени от этих развалин… Оно — в своем логовище… Значит, усталость все-таки заметна?.. Я так и хотел… А пейзаж у меня произвольный… В Калабрии я не был… Кактусы разве есть в Калабрии?.. Я их срисовал с какой-то фотографии, потом, может быть, смажу… «Сейчас они отдохнут», — так думаю назвать…
— Ага!.. Отдохнут?.. Потому что…
— Потому что оно ждет их и сейчас бросится…
— Кто же это оно?.. Зверь?.. Тигр?.. Лев, что ли?..
— Да… Вообще… Страшный какой-то конец их жизни… Все устало очень: люди, осел, небо… и вся эта вообще пустыня с кактусами… Но о н о — нет! Оно, напротив, полно силы… Оно ждет их… и дождется… Вот что, собственно, я хочу… Полно силы и голодно… Очень голодно… Показывать его ясно я не хочу… Вот только это (он показал шпателем) — концы лап и глаза на морде… Но очертаний морды не должно быть… А прыжок оно сделает через две-три минуты, когда они подвинутся.
— Ага!.. Но лапы все-таки охра?
— Нет, они должны быть темнее… Это я хотел замазать сейчас.
— Ага… Ну да… Половина пока еще работы… А половину работы дуракам не показывают… А это что?
— Это — «Жердочка»… Сначала я называл «Узкая тропа», теперь зову «Жердочка»… Что еще уже жердочки?.. Канат?
Картина была на подрамнике и просто прислонена к стене. Какая-то погоня загнала двоих — мужчину спереди и женщину сзади — на бревно, перекинутое через горный поток… Но хлещет дождь, бревно скользкое, и вот падает мужчина, — поскользнулся и падает навзничь, и не удержится, упадет сейчас, и будет унесена потоком и разбита о камни женщина: это видно по лицу ее, что сейчас упадет и она… Сзади же горы, и две лошадиные головы в дожде — черная и белая: погоня.
— Гм… «Жердочка»… Да… Экспрессия есть!.. Вот как — а?.. И воздух… и скалы даны… Это — Абруццо?
— Вроде этого, — пророкотал Ваня.
— Коротка рука тут, — показал на падающего отец.
— Ракурс!.. Так, — показал на своей руке сын.
— На полвершка короче, чем надо… А дождь хорош… И холодно… Осень?.. Ноябрь?.. Который час?
— Двенадцать, кажется. — Ваня достал часы из кармана: — Первого двадцать минут.
— Нет, я о картине твоей… На скалах этих, хоть они и в дожде, часа три дня, а на шали женщины — часа четыре… пять даже… Но-о… Экспрессия есть… экспрессия есть! И сюжет трудный… А это?
— Это «Фазанник».
— Ска-жи-те! — протянул старик искренне перед новой картиной, повешенной на стене наклонно. — Занятно!.. И понятно, да… За-нят-ный мотив!.. Это — электрический фонарик у него в руке?
Картина была больше других, — аршина полтора на два, высота меньше длины. Кок в белом, вошедший ночью в фазаний садок, был дан безголовым: верхний край картины оставлял ему только нижнюю часть шеи. Очень дюжая спина смотрела на зрителя, и отчетлив был длинный кухонный нож в черной кожаной ножне, прицепленной к фартуку сбоку.
Освещенные снопом света, испуганно глядели фазаны, золотистые и серебристые, сидящие рядком на нашесте… Разбуженные от сна, одни подняли головы, другие протянули шеи вперед, и к одной из этих птиц, самой красивой и важной, тянется широкая рука повара.
— Ага!.. Вот как!.. Значит, смерть в белом!.. С ножом вместо косы… Сюжет — да!.. И хорошо, что ночь… Так большей частью и бывает: сначала наступает ночь, а потом, ночью, приходит смерть… Я, конечно, от удара помру и непременно ночью.
И несколько нараспев, несколько неожиданно для Вани прочитал вдруг старое чье-то шершавое четверостишие:
Что наша жизнь? — свеча:
Живешь пока живется,
Приходит смерть, махнет косой с плеча, —
Огонь потух, — одно лишь сало остается!
— Фазанчики, конечно, жирные, да… Корм-леные фазанчики… Но тема у тебя везде одна и та же… А это? — заметил он еще панно на другой стене. — Бурно!.. Очень бурно!.. Ог-го!.. Очень эффектный прибой!.. И даже… Это что, — дома летят в море?
— Это под впечатлением… ты помнишь, — землетрясение в Мессине? Когда Мессина провалилась в море… читал?
— Ага?.. Так это — Мессина?
— Вроде…
— А не зелена вода?.. Тра-гич-но!.. Нет, это — трагично!.. Не зря, значит, я к тебе пришел!.. Дома сейчас скроются!.. Трагично!.. Нет, вода почти хороша, — но только… выше надо! Еще выше!.. На аршин выше!.. Давать так давать!.. А здесь внизу — асфальт!.. Грудами!.. Теперь не любят асфальта… Отставная краска!.. Однако к этой гамме тонов только он идет — асфальт!
Волнообразно пробуравил перед собою рукою с большой энергией, взмахнул ею над картиной и добавил: