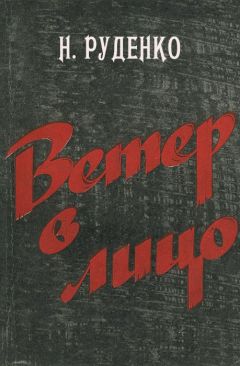Солод поправил подушку, закрыл глаза. Мысли становились все ленивее, сплетались беспорядочно, снова расплывались, теряли четко очерченные контуры, как кольца табачного дыма. То возникало из тьмы, из небытия старое беззубое лицо Саливона Загребы, то появлялось лицо красивой Веры... Он почему-то оказался в комнате постоялого двора, описанного кем-то из классиков. Лежит на кровати, каждая ножка которой поставлена в миску с водой, а на голову сыплются с потолка клопы. Он смахивает их с лица, но они снова сыплются на него десятками. Вот он поймал одного, поднимает пламя свечи. Большой, твердый, как камень... Вдруг этот камень сверкает в руке, переливается радужными гранями. Но это же бриллиант!.. Иван Николаевич смотрит на пол, куда он смахивал клопов. Да, бриллианты, бриллианты! На него сыплется бриллиантовый град. Он вскакивает с постели, обеими руками лихорадочно загребает дорогие камни, бросает за пазуху, засовывает в карман... Откуда это? Боже! Это же обвалилась стена, на которой висели нимфы! Это же его собственные бриллианты! Вот и золото... Золотые бляшки из женских подвязок, золотые диски для зубов, николаевские червонцы... Что это значит? Вдруг он слышит страшный хохот у себя над головой. Кто это? Волосы рыжие, огнистые, руки черные, пальцы, закуренные махоркой... Неужели Безкобылин? Да, да... Это он!
Солод открывает глаза, хватается за горло, будто стремится защитить его от черных пальцев Безкобылина. Халат влажный от пота, дышать нечем. Встает, откидывается всем телом на спинку дивана, обессилено опускает руки. Пальцы судорожно хватаются за сидение, колени дрожат. Перед глазами мелькают тысячи мелких палочек, подвижных темных спиралек и точек, будто он взглянул в клинический микроскоп, который показал ему бессмысленную суету мелких инфузорий.
И он сразу же подумал о том, что пора уже наведаться к сестре.
Никто не мог так успокаивающе повлиять на него, как она. Собственно, не она сама, а тот чистый, светлый дух, незримо витающий над ней. Как заядлый грешник падает на колени в торжественной тишине храма и вымаливает себе прощение грехов, так Солод чувствовал себя в ее доме. И хотя сестра даже не догадывалась, чем занимается ее любимый Ванечка, а он не признался бы ей в этом и под угрозой смерти, разговор с ней просветлял, возвышал его душу, пробуждал в ней остатки человеческого.
Потом все начиналось сначала, потому что не могло не начинаться — это стало его сущностью, второй натурой.
Ежедневно, планомерно, взвешивая каждую деталь, Доронин готовил мартеновцев к наступлению. Он разговаривал с десятками людей — с каменщиками, с шихтовиками, с копровиками. Чем глубже входил в сложные вопросы технического взаимодействия между различными профессиями, которые обеспечивали работу сталевара, тем больше убеждался, что только комплексное соревнование может стать тем звеном, взявшись за которое, можно вытянуть всю цепь.
Вот и сейчас он сидит в кабинете Приходько — начальника мартеновского цеха. Высокий худощавый Приходько несколько раз вставал из-за рабочего стола, уступая свое место Доронину. Доронин отмахивался. Наконец сказал резковато:
— На ваше я не сяду, товарищ Приходько. Я был бы доволен, если бы вы сами чувствовали себя на нем увереннее.
Эту реплику нельзя понимать двояко. Приходько поднял широкие черные брови, уткнулся носом в бумаги, чтобы скрыть глаза от Доронина. Если бы его серое лицо способно было краснеть, он бы сейчас покраснел. Доронин, бесспорно, намекал на то, что он так легко поддался идеи индивидуальных рекордов. Собственно, это было когда-то идеей Приходько, но ее своевременно заметил Горовой, от которого трудно было скрыть.
— Что о нас скажет Гордей Карпович?.. Вы подумали об этом? Директор нам бы этого никогда не простил.
Приходько моргал не глазами, а бровями. Создавалось впечатление, что брови у него вообще не имеют постоянного места, — то они поднимались, то опускались так низко, что лоб казался непомерно высоким. На макушке русой головы поблескивал вспотевший пятачок. «Рано начал лысеть, — подумал Доронин, пожалев о своей резкости. — Ведь ему только за тридцать перевалило. У него тоже работа нелегкая. Забот — полон рот».
— Ну, что?.. Обойдем цех? — сказал Макар Сидорович, улыбнувшись той улыбкой, которая говорила — не обижайтесь, погорячился. Улыбка Доронина сразу изменила выражение лица Приходько. Брови стали на свое место, он тоже улыбнулся, вышел из-за стола.
— Понимаете, Макар Сидорович, в чем беда?.. — говорил Приходько, застегивая пуговицы на синей рабочей куртке. — Литейный пролет не успевает принимать сталь, потому что очень быстро выходят из строя ковши. Мы объявили борьбу за то, чтобы ковши выдерживали семь-восемь плавок. Но это пока не получается.
— Что же надо сделать, чтобы вырваться из этого круга? — спросил Доронин.
— Больше ковшей, больше каменщиков.
— Может, вы скажете — больше мартенов, больше сталеваров?.. Надо использовать те резервы, которые есть в наличии. А с каменщиками вы говорили?
Доронин пристально посмотрел на Приходько. Тот стоял перед ним почти навытяжку. Доронин рассердился — теперь уже на себя. Что-то есть в его характере такое, что влияет на людей не так, как следует. Надо за этим проследить. Правда, когда он разговаривал с рабочими, такого не случалось. Но почему и Голубенко, и Приходько вытягиваются перед ним, как перед генералом?.. Ему не нужны такие почести — они его раздражали и настораживали. Люди с ним должны чувствовать себя просто. Над этим стоит задуматься. Не слишком ли он резкий? Тем не менее читать элементарную политграмоту там, где требуется деловой разговор, нет никакого смысла. Так можно превратиться в говоруна-проповедника...
— С каменщиками говорил, — после некоторой паузы ответил Приходько. — На оперативке... И на собрании коллектива цеха. Мы с парторгом их вызывали...
Доронин на это ничего не ответил, но раздражение его росло. Ну вот!.. На оперативке, на собрании, вызывали к себе... И говорили, пожалуй, так, как он говорит сейчас с Приходько. Доронин знал, что легче стать инженером, чем научиться управлять людьми, и в душе не очень осуждал Приходько. Но найти что-то теплее, задушевнее для этого человека он сейчас не мог.
Со второго этажа, где находился кабинет Приходько, они спустились по металлической лестнице к мартеновскому цеху, затем перешли к литейному пролету.
Литейный пролет находился здесь же, за мартенами, на уровне тех самых насадок, с помощью которых «дышал» мартен. Здесь стояли огромные, многотонные ковши, в которые принималась готовая сталь, выпускаемая из печей по желобу из шамотного кирпича. После того как вся сталь попадала в ковш, мостовой кран поднимал его над железнодорожной платформой, на которой стояли изложницы. Разливщик, стоя на мостике, по которому можно было пройти вдоль всего литейного пролета, массивным рычагом поднимал стопор, открывая отверстие в днище ковша. Сталь горячей струей выливалась в изложницы. Именно в этих изложницах она и формировалась в слитки, которые затем попадали в прокат.
Доронин и Приходько стояли на мостике литейного пролета, смотрели, как кипящая сталь выбрасывает из изложниц снопы искр.
— Чита, ко мне!.. Ну, раз, два!.. Молодец, Чита! — кричал молодой литейщик, размахивая для кого-то рукой.
— Это что за новость в вашем цехе? — улыбнулся Доронин. Приходько тоже засмеялся.
— Консольный кран так ребята назвали. За то, что он вертлявый, как обезьяна.
Консольный кран, подхватывая тяжелые чугунные крышки, поднимал их вверх и опускал на изложницы. Живописный фейерверк прекращался. Но что случилось с ковшом? Пока мостовой кран поднимал его к другим изложницам, тоненькая струя стали расплескивалась по изложницам, по платформе, брызгала на железнодорожные рельсы.
— Эй, Великанов! — кричал разливщик с мостика вниз. — Ни к черту не годится твоя работа. Видишь, пробка стопора обгорела. Хорошо, что сталь в ковше кончается.
С ковша, который стоял на ремонте недалеко от железнодорожных платформ, появилась голова Великанова в засаленной кепочке. Эта голова сказала такое «крепкое» словцо, что Доронин не выдержал — вышел из-за железной перегородки.
— Добрый день, товарищ Великанов! — бросил он вниз.
— Простите, товарищ парторг, — смутился Великанов. — Но как же тут не ругаться?.. Ишь, виноват...
— Да-а, — улыбнулся Доронин. — Бога на помощь призываешь?.. — Металлические зубы лукаво блеснули. — Бог не поможет, Василий. Запомни, ты не в николаевской монопольне, а в цехе.
— Не буду, товарищ парторг. Как-то вырвалось...
— Как только будет вырываться — язык прикуси.
— Ой, Макар Сидорович! — хохотали разливщики. — Тогда ему собственный язык придется вместо шницеля съесть.
— Иди сюда. Осмотрим твой язык, — сказал Доронин.
— Поручите нам, — не унимались разливщики. — Мы ему за каждое слово свою печать на языке будем ставить. Горячим способом. По каленое железо далеко бегать не надо.