— Вот так, мамаша, и сидите.
Включил точно такую же, как у Нади, машину, и так же, как Надя, что-то отыскивал в зубах, что-то подпиливал в них и подтачивал. И опять ласково посмотрел Евдокии Ильиничне в глаза и сказал:
— Поставим вам, мамаша, зубы поострее и покрепче тех, какие были у вас в молодости.
На что Евдокия Ильинична вежливо ответила:
— И что вы такое говорите? Таких зубов, какие бывают у человека в молодости, никто поставить не сумеет.
— А вот я поставлю!
И опять Евдокия Ильинична вежливо ответила:
— Ну, тогда вы, извиняюсь, есть чародей.
— Не чародей, мамаша, а дело свое знаю.
После того как они так приятно поговорили, стройный мужчина попросил свою пациентку сполоснуть рот, что Евдокия Ильинична и сделала. Потом он взял со стола металлический совочек, вылил на него из чашки что-то похожее на остывшую и слегка загустевшую сметану и сунул совочек Евдокии Ильиничне в рот так проворно, что она не успела глазом моргнуть. Она чувствовала, как солоноватая на вкус «сметана» теплела и быстро твердела. Неприятны были и этот солоноватый привкус, и эта каменная твердость «сметаны», а особенно то, что нельзя было закрыть рот и пошевельнуть языком. Евдокия Ильинична терпела
думала: «Какой славный мужчина этот врач, и какие хорошие люди живут в городе…»
Больше всего любила Евдокия Ильинична бывать с внуками в сквере. Кустарники в ярком осеннем убранстве, ряды деревьев, удобные скамейки, фонтан, жиденькие струйки воды, будто из перевернутой лейки, пламя жарко-красных цветов — чего же еще желать лучшего! Гурьба чужих детей, таких же шустрых и крикливых, как и ее внучата; такие же, как и она, старушки на скамейках, и светит им нежаркое солнце, и шумят на улицах машины — на душе в такие минуты спокойно и радостно. Юра с мальчиками катался на трехколесном велосипеде, подлетал к бабушке, чтоб она видела и его удаль, и его веселые, горящие глазенки. Катя с подружками играла в скакалки, подпрыгивала легко на своих тонких ногах, оголенных выше колен, — разве это не счастье — вот так сидеть на лавочке и присматривать за внучатами!
Ласковыми, полными радости глазами Евдокия Ильинична смотрела и на детей, и на сидевших старух, и на проходивших не знакомых ей людей и так погрузилась в думы, что совершенно забыла о Прискорбном и о том, что через несколько дней ей придется уезжать. Своя, хуторская жизнь куда-то отдалилась, спряталась, а эта, городская, непривычная для нее жизнь стала ей приятна и радостна. «И что за сила таится в этом городском житье, ежели оно и меня к себе притягивает? — думала Евдокия Ильинична, посматривая на игравших детей. — Теперь я понимаю, почему люди сюда устремляются. Сама я немного побыла в городе, а уже прижилась, пообвыкла, и все, что зараз стоит перед моими очами, заслонило собой и Прискорбный, и все, что там было и что там еще есть…»
Антон и Надя радовались, что у Евдокии Ильиничны изменилось настроение, что она заметно посвежела, поздоровела, как свежеет и здоровеет хорошо отоспавшийся на воздухе и отдохнувший человек. Под глазами на лице разгладились морщинки, на смуглых щеках, особенно по утрам, проступал румянец, а прежней суровости во взгляде не было и в помине.
— Не узнать нашу маму, — повернувшись к мужу на кровати, сказала Надя. — Удивительно, как она за эти дни изменилась. Стала и веселая и приветливая. А как дети к ней привязались, как они ее полюбили…
— Ничего удивительного, — понимая радость жены, рассудительно говорил Антон. — Мать отдохнула, избавилась от привычных забот, отсюда и перемены. Ведь нелегко ей там живется, хотя она никогда на свою жизнь не жаловалась. И в том, что дети к ней потянулись, тоже нет ничего загадочного. Известно, все бабушки души не чают в своих внучатах, а дети это понимают и на любовь отвечают любовью…
— Антоша, пусть мама остается у нас, — сказала Надя, не слушая мужа. — Скажем: пусть остается и живет.
— Чего это ты вдруг? — удивился Антон. — Недавно она не нравилась тебе своими разговорами!
— При чем тут разговоры? — рассердилась Надя. — Не было бы тогда Саввы Нестерови-ча… Уговори ее, скажи, что у нас ей будет хорошо…
— Разве она бросит свою ферму?
— Но сколько же можно работать на ферме?
— Заранее предвижу бесполезность этого разговора, — сказал Антон, зевая и натягивая на плечи одеяло. — Да и не уживется она с Ивановной. Очень уж они разные…
— Ивановну рассчитаем, — живо сказала Надя. — Плохо, Антоша, когда в доме чужие люди. С матерью и детям и нам… Поговори, Антоша. Пусть бросает ферму.
— Ну, хорошо, — согласился Антон. — Поговорим вместе.
Антон знал, что мать с неприязнью относилась к Ивановне, считала ее ленивой, нерадивой, любившей сладко поесть и подольше поспать. Но Антон не знал, что мать, бывая в магазине, видела, как из тех денег, какие выдавались на покупку продуктов, Ивановна оставляла себе то рубль, то трешницу, пряча их за пазуху. Неизвестно ему было и то, что между матерью и домработницей произошла крупная ссора на кухне, когда они остались в квартире одни. Евдокия Ильинична из самых добрых побуждений сказала, чтобы Ивановна пораньше вставала и следила за чистотой комнат. Ивановна вспыхнула и ответила непристойной руганью.
— Чего ты лезешь во все щели? — Лицо Ивановны покрылось красными пятнами. — Чего липнешь ко всему, как репей? Кто ты такая, что берешься всех поучать? В своем телятнике распоряжайся! У меня тут есть хозяева!
— Пригрелась на теплом местечке! Птичник бросила, в лакейство ударилась, лежебока!
— А ты кто?! На себя сперва погляди! Я одному твоему сыну угождаю, а ты прислужничаешь тысячам! Извелась вся, праведница!
— Я людям служу и денежки у них не ворую! А ты по рублику крадешь у сына, бесстыжая твоя морда!
— Брешешь! Брешешь! — сквозь слезы кричала Ивановна. — Кто тебе поверит?
— Поверят… Я видела, как ты прятала… Вот расскажу сыну!
— Ведьма! Погубить захотела! — не говорила, а голосила Ивановна, — Ты чего сюда приехала? Тебя завидки берут? Хочешь мое место занять?!
— Эх, дура, дура, — качая головой, ответала Евдокия Ильинична. — Твое место мне и даром не нужно. У меня свое есть, и не бойся, на твое не променяю… А то, что ты лодырька бесстыжая, да еще и воровка, так об этом я тебе в глаза и говорю… И ты знай!
В это время на кухню вошла Надя, и ссора прекратилась. Надя увидела рассерженное лицо матери и плакавшую Ивановну и спросила, что у них произошло. Ответа не последовало. Евдокия Ильинична повязала голову косынкой и ушла. Ивановна все еще всхлипывала. И сколько ни спрашивала Надя, почему Ивановна плачет, она, не поднимая головы и шмыгая носом, молчала..
Незаметно наступил конец гостеванью. Был: куплен билет на самолет и послана Игнату телеграмма. Антон принес из магазина вместительный чемодан, обитый черным дерматином. В него положили дорожные вещи, покупки для Ильи и Стеши, теплые, в галошах, ноговицы — подарок Антона, два отреза на платье и пуховую шаль мелкой фабричной вязки — подарок Нади. В кошелке поместились харчи на дорогу, крупные краснобокие яблоки, сливы, две коробки шоколадного набора — гостинцы Игнатовым дочкам — Гале и Вале.
Вручая матери билет, Антон спросил, не боится ли она лететь в самолете.
— Страшновато, сынок, — созналась мать. — Но люди летают, не боятся, полечу и я. На старости лет с неба погляжу на землю.
Самым радостным событием было то, что Евдокия Ильинична наконец-то избавилась от щербины. По совету Нади протезист сделал мост металлический, коронки по бокам золотые, а два зуба пластмассовые. Золото рядом с белыми, удивительно молодыми зубами блестело непривычно, и Евдокия Ильинична, желая убедиться, что у нее нет щербины, нарочно не сжимала губ и то без причины смеялась, то улыбалась. Не только Антон и Надя, а даже дети в один голос сказали бабушке, что зубы у нее молодые и очень красивые. Катя — какая умная девочка! — уверяла всех, что бабушка стала совсем молодая. Евдокия Ильинична отнимала детей я целуя их, говорила: «Ах, какие вы славные воробьята, и как же я буду без вас теперь?» «А та не уезжай', бабушка», — говорил Юра. Катя кивала головой и тоже просила бабушку остаться. «Не могу, мои голубчики. У меня есть свои дела, да и своя хата, к ней я привыкла. Юра, Катя, приезжайте ко мне на все лето, у нас хорошо, привольно…» Одна Ивановна не радовалась, на Евдокию Ильиничну не смотрела, делая вид, что ничего не случилось. «Дуется и не глядит на меня, — думала Евдокия Ильинична. — И пусть дуется… Наверно, стыдно в глаза смотреть, вот и отворачивается…»
Улучив минуту, когда в комнате никого не было, Евдокия Ильинична подходила к зеркалу. Почему-то языку было тесно, она чувствовала им бугорки пластмассы и скользкость металла. Трогала пальцем зубы и находила, что они острые и крепкие. «А этот чернявый доктор и в самом деле чародей», — думала она. Все смотрела, все любовалась и не могла насмотреться и налюбоваться. Мысленно она была на хуторе и думала о том, как же удивятся хуторяне, когда увидят ее новые зубы и услышат ее нешепелявый голос. Она непременно пойдет к Семену Маслюкову — пусть и он посмотрит и порадуется. Ей приятно было сознавать, что теперь-то не нужно стыдиться своей улыбки, своего голоса и не надо прикрывать ладошкой рот. Смотрела в зеркало, нарочно улыбалась и видела белые и золотые зубы, и свое лицо молодым и веселым. «Какая молодец Катя, — думала она, — как верно подметила, зоркие у нее глазенки».
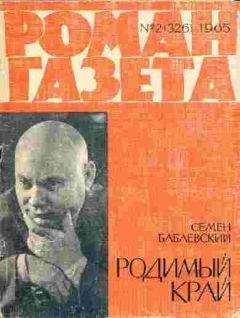
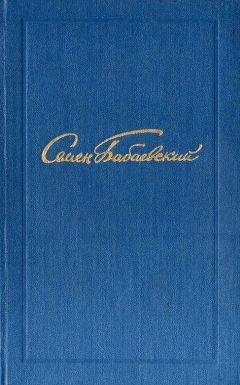
![Джером Дэвид Сэлинджер - Ранние рассказы [1940-1948]](https://cdn.my-library.info/books/126997/126997.jpg)


