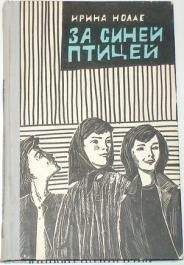А Белоненко не пошел домой, как намеревался. Когда хлопнула за Мариной входная дверь, он неторопливо закрыл сейф, бесцельно передвинул на столе чернильный прибор и устало опустился на стул. Пальцы его машинально выстукивали дробь на не убранной в ящик папке.
— Орел! — Белоненко показал Евсею Лаврентьевичу монету. Охотник одобрительно кивнул.
— Тоже ваш будет, — уверенно сказал он. — Место это самое подходящее. И опять же — ветер на вас. Везет вам, товарищ начальник! Вы, однако, все призы соберете… Белоненко неопределенно махнул рукой:
— Бог с ними, с призами. Надо с волками покончить. Вон, говорят, вчера на лесном кордоне опять один бродил.
— Должно, последний остался, — заметил охотник. — Остальные ушли дальше. — Он осмотрелся. — Вишь, заяц след оставил. Не всех, знать, похватали хищники. Ну, товарищ начальник, ни пуха вам ни пера! — он сплюнул через левое плечо.
Белоненко занял свое место у высокой ели, нижние ветки которой, засыпанные снегом, сливались с наметенным у подножия сугробом. Влево от дерева рос мелкий кустарник, тоже заваленный, снегом, а дальше проходил овраг. Именно оттуда, по предположению Евсея Лаврентьевича, должен был выйти зверь.
Облава продолжалась уже третий день, постепенно перемещаясь вглубь леса. Белоненко везло — он уже уложил трех хищников, обогнав счетом Богатырева и Морозова, которые убили по два волка. Однако охотничий азарт не захватывал Белоненко. К своим трофеям он относился с обидным для Евсея Лаврентьевича равнодушием.
— Нету у вас, товарищ капитан, никакой охотницкой жилки, — укоризненно заметил он, когда Белоненко, мельком взглянув на убитую волчицу, хотел отойти в сторону. — Ровно вы не зверя убили, а на стрельбище в фанерный щит пулю всадили.
Белоненко рассмеялся, рассмеялись и другие.
— Если в щит, то плохой с него стрелок, — сказал Морозов. — Это называется — пуля за молоком пошла.
— Я хотел сказать — в мишень, — оправдывался Евсей Лаврентьевич. — Да куда же вы уходите, товарищ капитан? Вы бы хоть разглядели ее как следует. Ваша добыча…
— Что ж на нее смотреть? Убил, и ладно. Я ведь не люблю охоты, — откровенно признался он. — На хищного зверя — это я еще понимаю, а вот на зайцев, на птиц… — он покачал головой. — Да не сердитесь, Евсей Лаврентьевич, — поспешил он добавить, заметив, как нахмурился старый охотник. — Что я могу поделать, если душа у меня к этому спорту не лежит? Никогда я не мог понять: ходит человек по лесу, бьет из ружья токующего глухаря, а потом еще красивыми словами об этом рассказывает.
— А Тургенев? — спросил Морозов.
— Да хоть и Тургенев, какая разница?
Лейтенант хотел было вступить в спор с Белоненко, но тот уже отошел в сторону.
Евсей Лаврентьевич был уязвлен словами Белоненко, но это не поколебало его уважения и симпатии к капитану, который, как подумал охотник, хоть и без азарта, а все же лучше всех бьет хищника. Он и сейчас был доволен, что Белоненко досталось самое выгодное место: этот не промажет.
— Я стою справа от вас, — сказал он, — а слева — начальник товарищ Богатырев.
— Ну, значит, все в порядке, — ответил Белоненко. Вдали раздался звук рожка.
— Началось! — насторожился Евсей Лаврентьевич и, махнув на прощанье своей лохматой рукавицей, пошел с ружьем наперевес к своему месту. Через минуту он исчез в заснеженной чаще.
Белоненко остался один. Ему уже не терпелось, чтобы поскорее кончилась эта облава, отнявшая так много времени. В лагере развивались события, требующие от всех начальников подразделений самого пристального внимания. После письма Николы Зелинского в воровской среде начался раскол. Еще не многие из них всерьез задумались над тем, о чем напоминал им Дикарь: большинство колебалось, не зная, к кому примкнуть, а некоторая часть сбилась вокруг Ленчика Румына, «авторитет» которого значительно повысился после того, как он порезался в БУРе и, таким образом, активно выразил свой протест против письма Зелинского. Вчера утром на совещании у начальника Управления командование лагеря рекомендовало начальникам лагпунктов и инспекторам культурно-воспитательных частей использовать момент раскола и брожения, чтобы вырвать из-под влияния Румына и его приятелей хотя бы некоторую часть молодых жуликов.
— Смотри в оба, — посоветовал Богатырев Белоненко, когда они спускались вместе по лестнице Управления после окончания совещания. — Есть сведения, что Румын и его компания наметили какие-то планы относительно твоей ДТК. Проверь там всех своих воспитанников, поговори с вольнонаемным составом — словом, будь начеку.
Белоненко давно знал это и потому каждый вечер, несмотря ни на какую погоду, возвращался к себе в колонию, где временным его заместителем оставался Горин. Капитану казалось, что предстоящая решительная схватка с компанией Ленчика Румына, вокруг которого сплотились самые отъявленные, самые отпетые воры-рецидивисты, — это та же облава на хищников, только гораздо более опасных, чем волки. Ленчик Румын был сейчас обезврежен, но кто знает, какими путями могут проникнуть его «соратники» в детскую колонию и откуда ждать предательского удара в спину? «Нет, Румын, — снова мысленно повторил Белоненко, вспомнив, что писала в своей записке Маша Добрынина, — будет бит твой козырь, и крепко, навсегда бит».
Зверь шел по левому склону оврага, где было меньше снега и не мелькали у заснеженных кустов и подножий деревьев красные лоскуты, похожие на языки пламени, пугающие хищника и заставляющие его забираться все дальше и дальше в лес. С утра сегодня уходил волк от тревожных запахов, резких звуков и отдаленного лая собак. Волк был еще не стар, и, несмотря на неласковую осень и голодную зиму, в нем хватало еще сил и ловкости, чтобы перехитрить человека.
Сейчас он шел неторопливо, потому что вокруг было тихо, и чуткий нюх его не улавливал никаких запахов, кроме запаха свежего снега, хвои и недавнего следа, оставленного зайцем. Волк шел по этому следу, низко опустив лобастую голову, мягко и сильно ступая упругими лапами по неглубокому снегу. У кустарника след исчез, — видно, зверек сделал прыжок в сторону.
Волк остановился. Сейчас его можно было принять за крупную, приземистую овчарку с отвислым задом и темно-бурой окраской шерсти. След потерялся, но инстинкт подсказал хищнику, куда сделал длинный скачок зайчишка, и, повернувшись всем туловищем направо, волк миновал косматый куст, запорошенный снегом, и вышел на небольшую поляну, где высилась громадная ель, и тотчас же легкое дуновение ветра донесло до него запах человека. Зверь круто повернул обратно, но вдруг короткий, оглушающий звук разорвал лесную тишину, и что-то ударило горячим огнем в заднюю его лапу. Волк сделал огромный прыжок, но выстрел прогремел еще раз, теперь уже с другой стороны. Хищник дернулся и упал на снег.
К нему через поляну, опережая других, бежал Евсей Лаврентьевич. Подошел и капитан Белоненко.
— Ну, старшой, поздравляю, — сказал он старому охотнику, — этот уж на вашем счету. А здоров, черт!
— Да что там! — возбужденно и радостно откликнулся Евсей Лаврентьевич. — Не подрань вы его — ушел бы… Эх, мать честная! Хороша будет шкура. Уж как хотите, товарищ капитан, — повернулся он к Белоненко, — а выделаю и вам привезу. На память.
— Ладно, — улыбнулся Белоненко, — если на память, то и отказываться неудобно. А вдруг это — последний хищник в наших местах? Как такую память не сберечь?
— Последний не последний, — отозвался охотник, заворачивая самокрутку, — а поубивали мы их порядком. Теперь они осторожнее будут, а то скажи как обнаглели!
Лейтенант Морозов с восхищением и завистью разглядывал убитого волка, восклицая:
— Вот везет людям! Ну что бы мне орел выпал! Я бы уж с такой позиции тоже, думаю, не промахнулся.
— Не огорчайтесь, лейтенант, — сказал Белоненко, — говорят, кому в карты везет, тому в любви не везет. И наоборот… Для нас с вами эта пословица удивительно верной оказалась.
Глава третья
«Нет в жизни счастя»
Отшумели февральские метели, и звонкие утренники марта растаяли в шорохе первых апрельских ночей. Потом целые две недели стояла тихая, теплая и пасмурная погода, потом прошел неслышный теплый дождь, и вдруг как-то сразу, в одну ночь, набухшие соком деревья окутались зеленой дымкой. С протяжным курлыканьем прошли над притихшими весенними лесами косяки журавлей.
Ребята провожали их долгими взглядами, и каждый думал о вольном полете птиц, о высоких солнечных просторах, шорохах ветра и о весне.
Младшие забывали о журавлиных криках, как только четкий треугольник скрывался из вида, а старшие еще долго молчали и будто становились взрослее.
Через зону с шумом и гомоном неслись мутные, торопливые воды ручья. Зимой его замело снегами, и о нем забыли. А теперь, когда он, освобожденный от сугробов и льда, вышел из берегов и стал похож на маленькую, но сердитую речку, колонисты приходили смотреть, как крутится темная вода, огибая старую корягу и оставляя вокруг нее желтую пену. Казалось — ручей очень торопится, что ему некогда задерживаться, что впереди предстоит какая-то очень большая и важная работа. Потому он и сердится, встречая на своем пути препятствия, потому и шумит с таким нетерпением. А вместе с ручьем стремятся и спешат вперед веточки, листья, прошлогодняя хвоя.