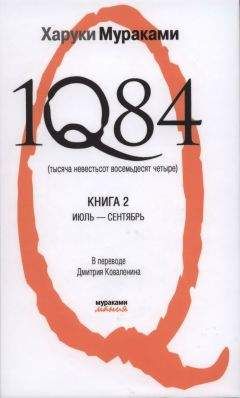— О, Хэпо-Ярви! Нигде не бежит так быстро конь, как по льду Хэпо-Ярви, и нигде не катятся так лыжи, как по склону его береговых гор.
— И как умеет Хэпо-Ярви молчать! И как кричит, ревет и свищет Хэпо-Ярви, когда буря вдет со шхер!
— А какие качели, Отти, какие качели расставили храбрые люди на берегу Хэпо-Ярви — [381] качели такой вышины, что сердце готово выскочить из груди, когда они взовьются над водой. А песни, какие песни поют люди на этих качелях по ночам, когда луна смотрит на дно Хэпо-Ярви! Отти, крошечный Отти, слушай:
Эй, ле-леле, Эй, ле-леле, Эй, ле, Эй, ле, Эй, ле-ле.Высокие, тонкие вскрики пробежали по верхушкам яблонь, зарылись в гущу сада, пропали. Покисен прижал к груди укутанного кружевами Отти и смолк.
Жене, которая пришла кормить ребенка, он шепнул:
— Я рассказал ему про Хэпо-Ярви.
И она чуть слышно поблагодарила:
— О, ты!
Воздух стянуло студью заморозка, какая выпадает октябрем, после тихого дня, отогретого солнцем. От этой студи и оттого, что хотелось уже посидеть по-зимнему — в пахучей тесноте, вокруг огня, — окна дачи закрыли наглухо.
Военный летчик Щепов — худой, обтянутый фуфайкой, в узких зашнурованных до колен сапогах — ходил мимо стола. Героиня семидольского театра следила за ним из уголка большими, засоренными карандашом глазами. Ее все звали по имени и отчеству — Клавдия Васильевна, — и Щепов посмеивался над ней: какая популярность!
Рита забралась на диван и не шевелилась.
— У вас воспаленное воображение, — говорил Щепов, обрезая слова короткими шагами. — И ваша лихорадочность — от боязни, что вы ошибаетесь. Какая, к черту, в Семидоле революция? [382] Четыре маслобойки и одна мельница. Пролетариат?
— Ты ничего не понимаешь! — кричал Голосов, подскакивая на стуле. — Наша задача...
— Дай я кончу. Вот вы — что ни на есть ответственные большевики — уехали в субботу из города. Знаете, что там осталось? Если не считать военкома, остался в неприкосновенном целомудрии Семидол царя Гороха. Весь город пополз ко всенощной, к Покрову пресвятой богородицы. В исполкоме дежурная сторожиха вяжет варежки, у особого отдела заснул красноармеец, а заведующий народным образованием рубит в корыте капусту для пирога. Ладно еще, что вы печатаете «Известия» на бутылочной бумаге. Она хоть и плохо, а раскуривается. Вот вам и революция.
— Наше дело — привлекать к себе новые кадры...
— Пошел к черту с этими словами! Я говорю тебе, что здесь за кадры.
— Виноват, — вступился Покисен, — если я вас точно понимаю, вы говорите, что Семидол контрреволюционен? Ну, а борьба с контрреволюцией разве не та же...
— Да какая здесь, к черту, контрреволюция? Болото с лягушками, больше ничего. Квакали раньше, квакают теперь.
Щепов остановился, скрестив руки. Взгляд его был блесток от веселого задора, голос — отточен и упруг.
— Посмотреть на вас со стороны — восьмидесятники! Сема для пущего сходства даже волосы отрастил. Собрались вечерком у приятеля, распиваем положенные уставом напитки, хозяйка хвастается грибками и маринадами...
— О-о-о! — воскликнула жена Покисена и от [383] негодования ее лицо окаменело больше обыкновенного.
— А восьмидесятники истекают потом в принципиальной дискуссии.
Голосов вскочил, точно уколотый. Руки его запрыгали по пояску. Он собирал полы рубашки сборочками за спиной, обтягивая живот и бока, и назади у него получался хвостик, подпрыгивавший от малейшего движения, как у трясогузки.
— Ерунда! — гаркнул он, топнув ногой. — Вот такие, как ты да вот как Старцов, это вы разводите болтовню, потому что вы рохли, тюфяки. Для нас все ясно, мы знаем, чего хотим, и в любом болоте найдем что делать. Дай нам самых сонных лягушек, мы из них сделаем то, что нам надо. А если из них ничего сделать нельзя — уничтожим, да, уничтожим их. Болота нам не нужно! Это вы — Щеповы, Старцовы — крутитесь вечно в мнимой принципиальности, все хотите примирить идеальное с действительным. Мы знаем, что примирить нельзя, можно только подчинить. И мы находим в себе силы подчинять! Мы не оглядываемся, не боимся, что вы про нас скажете, и нам все равно, какими мы представляемся воображению Щеповых. Восьмидесятники? Наплевать! Мы не боимся есть маринады и ездить на дачу. А вы лизнули вареньице и сейчас же задумались: а имеет ли революционер право лизать варенье в то время, когда... и поехало! Вот откуда у вас чувство превосходства! Смеешься? Я же по носу твоему вижу, что ты думаешь: нам-де очевидны противоречия, в которых погрязли большевики, и наше рыльце чистенькое. Плевать мы хотели в ваше рыльце! Думайте что угодно! Обойдемся без интеллигенции с ее патентом на непорочное мышление. Это не то что — спецы, у которых есть знание и которые... [384]
Голосов остановился, обвел всех нахмуренным взором, гаркнул:
— Ерунда! — и сел.
— Целая декларация, — сказал Щепов.
Покисен поправил очки.
— В вас еще сохранился юмор, Щепов? Не оттого ли, что Голосов оставил открытый ход для вылазки? На вашем лице превосходство интеллигента сменилось превосходством спеца.
— Ну, а вы-то, вы, — неожиданно закричал все время молчавший Андрей, — разве вы не та же интеллигенция?
— Не те же недоучившиеся студенты? — ввернул Щепов.
— Поехало! Кровь от крови и плоть от плоти! Брось! — отмахнулся Голосов.
Он снова привскочил, сощурился на Щепова и тихонько спросил:
— А верно говорят, будто бы летчик может уронить самолет так, что аппарат разлетится к чертовой матери, а сам он останется целехонек?
— К чему ты?
— Нет, нет, ответь на вопрос прямо!
Щепов развел руками.
— Теоретически...
— Нет, нет, не теоретически! — наступал Голосов.
— С известными системами такие случаи бывали. От падения на крыло пилота выбрасывает вон, иногда шагов на двадцать, машина переваливается на пропеллер, сминает его, иногда мнет и другое крыло. Вообще... Но это смешно! Уронить аппарат нарочно!
Щепов потянулся — высокий, худой, — подперев пальцами костлявых рук тесовый потолок. [385]
— Рискованно? — спросил Голосов, пряча в ладоньку неприметный смешок.
— Я тебя понимаю, — глухо проговорил Щепов. — Риск, однако, заключался бы не столько в умышленном падении, сколько в объяснении, которое оно потребовало бы. В аварии должна быть ясность.
Он прислушался к последним словам — как они расчертили воздух вровень с его головой — и повторил:
— В аварии должна быть ясность.
— Но ведь здесь на сто верст кругом никто, кроме тебя, не смыслит в аэропланах, — ты можешь объяснить любую аварию как захочешь, — сказал Голосов в ладоньку.
Щепов тяжело уставился на него и молчал. Все вдруг стихли, перехватив дыханье и глядя куда-то между летчиком и Голосовым.
— Вот скучно! — пугливо вздохнула Клавдия Васильевна.
Тогда лицо Щепова быстро разгладилось и посветлело.
— Занятный ты человек, Сема...
Голосов встал, сборчатый хвостик его рубашки хлопотливо оттопырился и задрожал, он тряхнул своими космами.
— С вами в самом деле скучища. Я пойду пробовать маузер. Кто со мной? Рита, пошли!
Товарищ Тверецкая тихо перевела глаза на Андрея. Он сидел сгорбившись, поочередно распуская и собирая морщинку между бровей, точно припоминал что-то непрестанно ускользавшее и смутное.
Голосов кинулся к двери, выдавив из себя с брезгливой болью:
— Ах, ну тащите вашего Старцова! [386]
Рита спросила:
— Хотите, Старцов?
Он молча поднялся.
Вероятно, ему было все равно — идти куда-нибудь или остаться.
С ним случается это часто. Внезапно он как будто глохнет, и тогда слышит только то, что происходит внутри него. Усилия, которые нужно сделать, чтобы не закричать в такие минуты от страха, изменяют его до неузнаваемости. Его лицо коробится, как пергамент от воды, он повторяет какие-то давно заученные движения, не замечая их, как бывает с контуженными. Он подчиняется всему, к чему его побуждают извне, не противясь и не соглашаясь, хотя сознание его по-прежнему живо. Он не может оторваться от единственной, непередаваемой, громадной какой-то мысли, однажды поразившей его мозг.
Он идет рядом с маленькой, жмущейся к нему Ритой. Она взяла его под руку, и он локтем ощущает мягкую теплоту ее груди и — за нею — беспокойное торканье сердца.
Голосов шагает спереди, разводя руками встречные ветки. Ночь непроглядна, заросли торона и вишняка густы и колючи, но Голосов упрямо пробивается чащей вперед и вперед, в холодную темень.
— Тише, Голосов! — говорит Рита. — Не бросайте так веток, вы исхлестали мне все лицо.
— А на что у вас руки? Отцепитесь от Старцова и не отставайте, идите скорей.
— Нас двое, нам трудней идти.