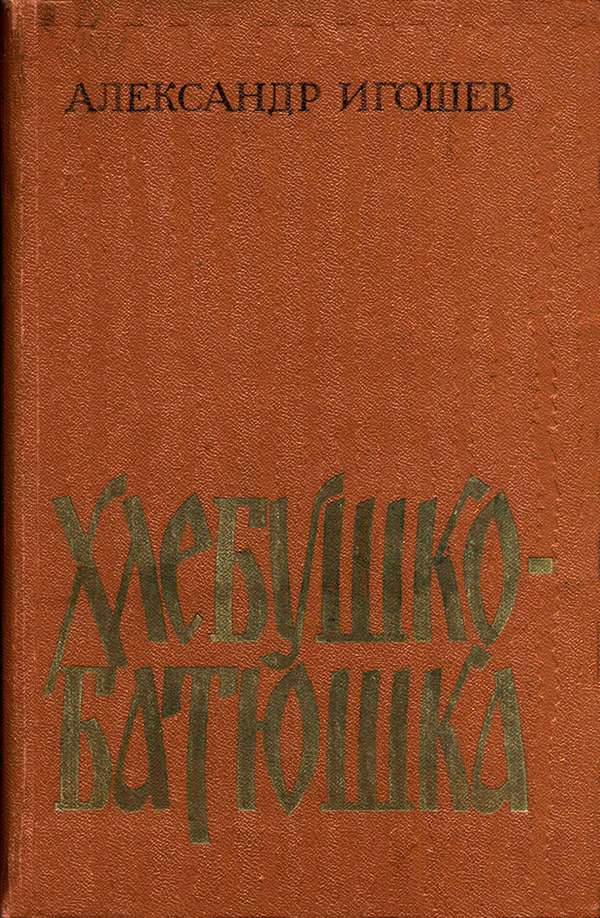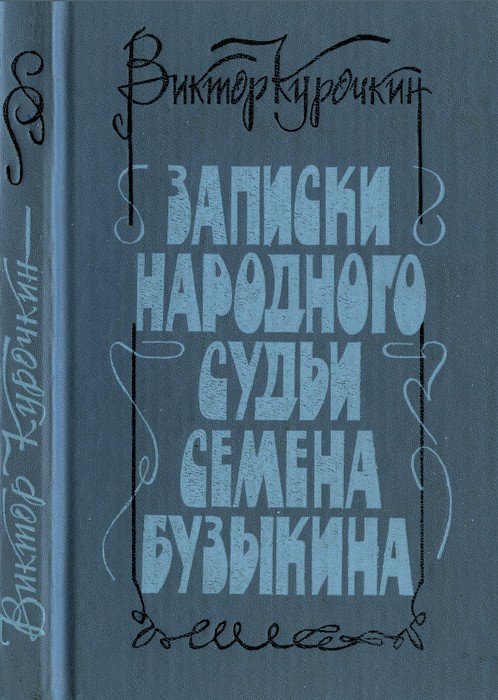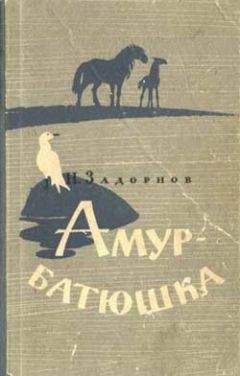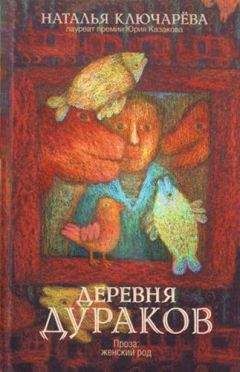и разливом Актуя вдалеке. Егор не спеша шагал сбоку и тоже глядел по сторонам. Пиджак он расстегнул, кепку снял и нес в руке. Солнце было горячим, земля быстро высохла, ветер степлился и загустел; Егор шел весь мокрый и, останавливаясь, смахивал рукавом со лба пот. Василий Васильевич не потел, а бледнел. На остановках, оглядываясь на Егора, бормотал виновато:
— Отвык. Одышка. Надо бы больше ходить пешком.
На полях за Лосиной балкой было тихо. Они были вспаханы и засеяны. Трактора праздно стояли у дороги. Никитич, Венька и белобрысый парень сидели у вагончика и, покуривая, глядели на Егора и на круглого бритоголового человека с полным бледным лицом и черными бровями. Василий Васильевич подошел к краю засеянного поля, кряхтя, наклонился, взял горсть земли; она, как песок, потекла у него промеж пальцев. Потом подъехали две машины, из передней выскочили Владимир Степанович и Федор Кузьмич и побежали к секретарю райкома.
7
Когда ехали на машине в Максатиху, Василий Васильевич сказал Егору:
— Ваш директор наверняка сегодня на меня обиделся: как, за что, почему, отчего такой разнос? Ведь он не виноват. Он получил указание. А этот ваш управляющий, по глазам видно, знал, что земля плоха, знал и тоже молча выполнял указание. Таких у нас немало. Годами мы бьемся, учим: думайте, вы — хозяева; говорим: вот вам план поставок, об остальном думайте — и сколько сеять, и как сеять, и где сеять, и когда сеять, думайте. Не думают. И заметь, за редким исключением, не дураки они, умные люди, толковые руководители, в хозяйстве собаку съели, образованные. Что их толкает на этот легкий путь? Инерция? Леность? Отсутствие самостоятельности? Не знаю, не знаю. А может, мы сами — я, другие товарищи в чем виноваты?
Василий Васильевич остановился, подбородок у него дрогнул, голос стал хриповатей:
— Наверно, мы все-таки больше виноваты.
Василий Васильевич замолчал. Егор сказал:
— После драки кулаками не машут.
— Да, ты прав. Но все-таки этот случай мы обсудим на бюро, — пообещал Василий Васильевич и выглянул в окошко: — Вот мы и приехали.
Егор простился и сошел.
Бабы-сеяльщицы сидели на мешках. Возле сеялки, притулившись на подножке, копался высокий угрюмый парень — слесарь Микеша. Солнце освещало трактор уже с другой стороны, хотя с утра он стоял на одном и том же месте.
— Будет еще что, звони, — сказал Василий Васильевич. — А может, на тех полях что и вырастет?
— Нет.
— Тогда агроному и директору не миновать наказанья.
«Газик» тронулся и скоро убежал. Егор подошел к сеялке, поглядел, как Микеша забивал обратно шпунт, вздохнув, направился к трактору. Дзинь, дзин-н-нь, — понеслись вслед ему железные, тревожащие душу звуки. Егор поднял капот, осмотрел зажигание. Делал он это машинально, а железные звуки бередили душу. Разговор с Василием Васильевичем не успокоил его. В самом деле, все они, кто виноват в распашке поля, — и Рюхин, и Федор Кузьмич, и Владимир Степанович, и трактористы — Никитич, Пашка, Венька и тот белобрысый парень из Ананьина, не хотели плохого, никто из них не желал зла. Но почему, почему они, безобидные по отдельности люди, объединившись, вдруг стали творить зло? «По всему району так», — вспомнил он слова Федора Кузьмича. Нет, не так. Кузьмич просто искал себе оправдание. Егор успокаивал себя, но боль в груди не проходила, и он подумал, что если бы так нестерпимо болело сердце у Рюхина, у Федора Кузьмича, у Владимира Степановича, у Никитича с товарищем и у Веньки с Пашкой, то первые никогда бы не дали команды распахивать те поля за Лосиной балкой, а вторые — никогда бы не выполнили такой команды, и тогда стало бы невозможным совершенное зло.
В июле хлеба вышли в трубку. Поля бархатно зеленели. Ветер дул из прокаленной солнцем степи, тугой и жаркий, и хлеба взялись волнами, как речка в половодье, — волны бежали под ветром полого, и не было у этой речки видимых берегов. Егор остановил коня, сошел с дрожек. У самых ног его шумела пшеница. Он присел на корточки, провел рукой по узким, свернувшимся в трубочки листочкам. Подняв голову, оглядел поле, пыльную дорогу, вспомнил: тут стояли они с Василием Васильевичем; день тот стал памятным, с него начались перемены.
Сначала ушел Рюхин, ушел сам; куда, никто не знал — был парень, и не стало парня. Лишь недели через две Венька сказал Егору, что видел Алешку в районном центре, — он устроился в тамошнем совхозе учетчиком.
Федор Кузьмич долго не здоровался с Егором; они оба стали избегать друг друга; увидев издали Егора, Кузьмич сворачивал на другую улицу, а при встрече на народе глядел мимо, будто Егора и не было. Егор сначала обижался, а потом привык, и когда перед сенокосом управляющий сам пришел к нему на дом, Егор не знал, что и делать.
— Вот что, Егор, берись за бригадирство. Так решил Владимир Степанович.
Егор был смущен. Все это было неожиданно — и появление Кузьмича, и его тон, и такое предложение.
— Ты в молчанку не играй, — снова заговорил Кузьмич. — Ответствуй, согласен или не согласен.
— Дай подумать.
— Ладно, даю тебе сутки сроку, — решил Кузьмич и, не попрощавшись, вышел.
Егор подумал и согласился.
С Владимиром Степановичем за время бригадирства Егор виделся несколько раз, но все как-то мельком. Каждый раз директор куда-то торопился, и, хотя виду не показывал, Егор понимал: прошлое не забыто и день тот в поле за Лосиной балкой он помнит.
В начале июня Венька попал в аварию. От мотоцикла остались одни железки, а самого Веньку увезли в больницу с двойным переломом ноги. И когда Егор появился в его палате и, поискав глазами стул, присел на кровать, Венька, скривив губы, прошептал:
— Вот, дядь Егор, видишь… — и, отвернувшись, заплакал.
Егор, вместо того чтобы отругать его, как он собирался, похлопал Веньку по плечу:
— Не надо. Слышишь — не надо. — И, подумав, совсем уж некстати добавил: — Без мотоцикла теперь будешь умней.
Вышел Егор сконфуженный, поняв, что сказал не то, что хотел.
После той пьяной ночи Пашка тоже ушел из совхоза. Долго о нем не было ни слуху ни духу, а недавно прислал письмо Кате. В нем он ругательски ругал себя и просил не поминать его лихом.
Тяпу Егор поставил пока на старое место — подвозчиком к тракторам.
…Впереди на дороге показалась встречная подвода. Конь в дрожках радостно заржал, оглянулся на Егора. Егор сел в дрожки, взяв в руки вожжи, дернул, причмокнул губами. Колеса глухо зашептались о чем-то с