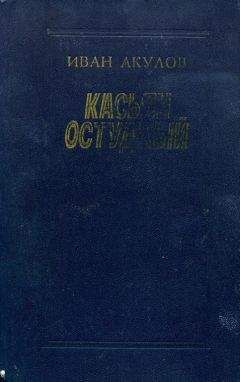Но Якова Назарыча в Совете не было: он без шапки, в расстегнутой кожанке бегал под крутояром и пахал намокшими сапогами вязкий, тяжелый снег. Бросался то вверх, то вниз, рыл руками истоптанные наметы, но выкопал только чей-то потертый шелковый кисет с вышивкой сиреневыми нитками «Закури и вспомни». Яков Назарыч зашвырнул его подальше и хотел подниматься в гору, да скатившаяся на санях молодежь окружила его и, находя, что он метется тут по пьяному делу, стали потешаться над ним:
— Что, Яша, ай пуговицы от штанов рассыпал?
— Яша, опушку-то — в зубья.
Парни скоро поняли, что Яков Назарыч трезв и чем-то до крайности расстроен, а девки, разыгравшиеся, напропалую веселые, сами растрепанные, не разобрались, — не до того им, — набросились на Якова, обвисли на нем по двое да по трое на каждую руку и ногу, начали умывать его снегом. Стешка Брандахлыст верещала ему в ухо:
Чтой ты ходишь за меня?
Чтой заглядываешь?
Яков вначале улыбался, уговаривал девок, но когда ему и в рот набили снегу, остервенился и стал расшвыривать девок, бить их по чем зря. Стешке Брандахлыст расквасил губы. Ванюшка Волк стукал себя в дубленую грудь обоими кулаками и, запрокидываясь, визжал от восторга:
— Яшка, чтобы угореть, ставь ее на четыре колеса! Ставь, суку.
Отбившись от девок, Яков Назарыч целиной поднялся на крутояр, по чужим огородам вышел к своему двору. Он верно знал, что обронил наган на катушке, однако еще хотел посмотреть его дома.
В избе дверь была приотворена, и в щель валил густой дым — в его теплом потоке трепыхались и коптились кострыжные бороды, выпавшие из пазов над дверьми. В избе было дымно и холодно. Кирилиха в шубе и пимах, в теплом платке на голове, сидела у стола и перебирала лук в решете. На кромке печи прилепилась кошка и лапой выбивала из-за уха блох.
— Тебя что, разжарило, — двери расхлябила?
— Яшенька, тут прибегала эта Валька секлетырка. Я у ей папиросой хотела разживиться — у! — как она на меня глянула. Двери-то, девка-матушка, не затворяй, а то дымно. Кирпич, должно, в боровик завалило — прет все в избу. Звала деда Филина, а он — вот скажи, есть совесть — обедом-де накормишь с бражкой, так сползаю. А вроде не в себе ты, Яша?
— Ты у меня железяку эту не видела?
— Пугач-то? Утресь умывался, так под подушкой видела. Да ты же его в карман поклал с собой.
— Это я и сам знаю.
— Чо спрашивать тадысь. Ай, потерял? И слава богу, на што он тебе. Чать, не война теперича. Люди бороны да плуги покупают, а ты — прости небесная — с игрушкой этой забавляешься.
Яков Назарыч подошел к матери, взял за плечи шубейки и поставил на ноги — она уронила решето, и лук раскатился по полу. Руки у него дрожали.
— Я тебя, старая, божеским словом прошу — никому ни слова, ни даже полслова про этот пугач.
— Да отступись. Эко ощерился. Что я тебе — кто? А ежели потерял эту холеру, так лешак ее забери — она не прокормит.
— Старая, не об этом песня. Прокормит — не прокормит. Подсудное дело для меня.
— Да уж лучше под суд, чем завсе таскать в кармане. Стрельнет еще, чего доброго.
— Ты это как говоришь?
Боясь, что он снова схватит ее за шубейку, она опустилась на пол и стала сгребать лук, которым играла молодая кошка, закатывая его под лавку в угол.
— Лучше бы кирпич достал из дымохода, — не смогла сдержать Кирилиха своего наболевшего. — Что это мы, Яша, как живем. Ровно мы не люди. — И она заплакала горькими сухими слезами.
— Ну, ладно, мать. Слышь, ладно, говорю. Я и сам думаю, что не так живу. Дождусь вот весны, своими руками ломить стану. Черт меня сунул на эту катушку.
Яков Назарыч сменил вымокшую от снега рубаху, причесался и, надев фуражку, хотел идти, но остановился над матерью:
— Ладно, мать. Пронесет с этой железкой, уйду в колхоз, дело видное, поправимся. Народ злой стал, а говорить с ним я не обучен. Пойду на рядовые работы.
— Дай-то бог, Яшенька. Надо и о себе подумать. Мы ведь не птицы небесные. Это они не пашут, не жнут, а живы божьим промышлением. Это куда как хорошо. А то рази на всякого угодишь. Ты к нему с добром, а он на тебя с топором. — Повеселевшая Кирилиха все говорила, говорила и не могла уняться, так с говорливой охотой и проводила сына, как доброго гостя, до самых ворот.
У сельсовета встретил братанов Окладниковых — оба плотные, оба усадистые, оба рыжие, и оттого совсем схожие без отлички, как два пятака новой чеканки. Глаза у обоих голубые, утайные, тот и другой голоруком: все село знает, что у Окладниковых рукавиц даже в заведении нету — они в самые лютые морозы в лес ездят без рукавиц, — знать, горячей крови влил в них отец, который в Конду ходил в извоз в одной, на рыбьем меху, сермяге и на ночевках в самые лютые морозы не просился в избу, а спал прямо с лошадьми.
— Зачем нас по праздничному делу, Яков Назарыч? — спросил старший Парфен, не глядя на председателя и краснея.
— Кто звал? Прибегал-то кто за вами?
— Твоя секретырка.
— Я не вызывал. Центровики у нас. Они, стал быть.
— Может, новая накидка по хлебу, так мы все тут, — сказал Окладников младший, Пармен, и, не доставая рук из карманов нового отороченного по бортам полушубка, распахнул его полы: — Вся душа нараспашку.
— Все тута, Марфута, — пошутил старший Парфен.
В сельсовет по одному вызывали имущих мужиков. Федот Федотыч Кадушкин ни вчера, ни сегодня на вызов не явился, сказавшись хворым. После многочисленных посыльных в Совет сходил Харитон, но предписание, обязывающее везти хлеб в город, не взял и не расписался за него.
— Встанет батя на ноги, с ним и толкуйте. А я в хозяйстве нуль без палочки.
Ворота Кадушкины держали на запоре. Во дворе были спущены собаки.
В сумерки кто-то постучал к ним в окошко. Дуня, совсем отяжелевшая, в широкой блузе и мягких вязаных носках подошла к окну, отвела занавеску и радостно объявила золовке:
— Люба, братец Арканя пришел.
— Я отопру, — отозвалась Любава и, упрятав в самоварной трубе пучок наломанной лучины, у порога накинулась шалью, выскочила на двор. Потом провела гостя в дом, отгоняя собак, одичавших от цепной неволи.
— Как живете-можете, что жуете-гложете? — весело сказал Аркадий, переступив порог. Снял шапку, сунул в оттянутый карман шубейки.
— Живем, хлеб да соль жуем, — так же шутя отозвался Харитон, спустившись по лестнице. — Раздевайся. Проходи.
— Я ведь ненадолго. Какие уж гости по нонешним временам.
— Именно так. Времена прошли, а теперь моменты. Даже кошка с кота просит алименты, — опять посмеялся Харитон и, повесив Аркадиеву шубу, вынес с кухни графин с клюквенной настойкой. Любава брякнула тарелками и рюмками. Дуня с вязанием подсела ближе к брату, осунувшееся лицо ее, в пятнах, угнетенное беременностью, оживилось.
Аркадий с улыбкой оглядел ее и сказал Харитону:
— Всю сестру ты у меня испортил. Ну, гляди, на кого она теперь похожа: брюхо да лоб.
— Баба, что квашня на опаре, сама буровит.
Опавшие щеки у Дуняши взялись робким, нестойким румянцем.
— Другого-то разговору нету, — упрекнула мужиков Любава. — А ты, Дуня, уйди от них.
Но Дуняша спокойно сидела на своем месте облюбованном, быстро мелькали вязальные спицы в ее руках, а в чуточку опущенных уголках рта таилась добрая ответная улыбка и брату, и мужу, и Любаве, и всему миру, который она вместила в свое счастливое сердце.
— Ну, с праздничком, Арканя, — сказал Харитон к захохотал: — Я бы век не знал, да вот даве батя, спасибо, напомнил: сегодня ведь золовкины посиделки. Кому не лень, тот и входи. А у нас ворота на запоре.
— Любава, твои посиделки, — сказал Аркадий. — Уж давай с нами. Хочешь не хочешь, впрягайся.
Любава присела к столу, взяла свою рюмку. Большие строгие глаза ее были печальны и задумчивы.
— Чегой-то все вы не веселы? — Аркадий дотянулся до Любавиной рюмки и звенькнул тонким стеклом.
— Батя опять заболел, — сказала Любава и обмочила в розовой настойке свои тонко выпряденные губы.
— А что с родителем?
Харитон опрокинул рюмку, заел картошкой, залитой хреном.
— Ума-то нет, так к коже не пришьешь. Тоже схватился на крутояре водить косой огород — мотанули, видать, — хоть и не признается.
— Федот Федотыч — кряж смолевый — не то переживет. Девоньки, — вдруг обратился Аркадий к женщинам, — вы бы дали нам о своих мужицких делах перемолвиться.
Любава и Дуня ушли на кухню, прикрыли дверь. Нанизывая на вилку шмотки соленой капусты, Аркадий уронил голос:
— Не везут мужики хлеб — значит, из города представители — ждать надо — пойдут по дворам. Ну вот, дожили. А я пришел поклониться Федот Федотычу — не даст ли пару лошадок до Юрты Гуляй.
— Так. Думаешь, и до тебя доберутся?