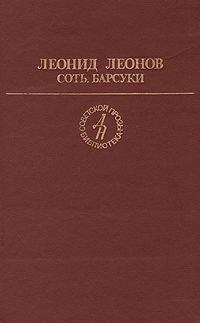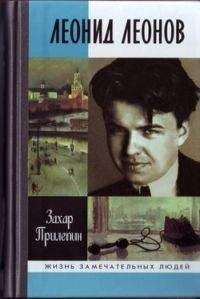Крик Семена отрезвил мать. Теперь она плакала, без слез, с открытыми неподвижными глазами, и, рассказывая, глядела в окно, затянутое сумерками. Даже пробовала оправить разметавшиеся черные космы непослушной рукой. А Семен глядел, не отрываясь, на ее корявые, неразгибающиеся пальцы. – И вот так же, как рассказывала о последних минутах отца, постепенно бессилея от воспоминаний, так и заснула, положив голову на стол. Семен бережно, чтоб не потревожить нечаянного сна, перенес ее на койку, а сам, не решаясь именно теперь покинуть мать, запер двери и прилег на лавку. Винтовку он приставил к столу.
Как ни закрывал глаза, не удавался сон. Мотались в голове дикие и гулкие образы, как камешки в погремушке, – представлялся отец: стоит у ямы и, смешно вихляясь, все убеждает соседей по смерти, Барыкова и Сигнибедова, что все это никакого влияния не оказывает, что и там, в поповском где-то, люди живут... Потом происходила обычная сонная сумятица, расщеплялся сон, вклеивались в него клинья новых. Сон – боль уставшей головы. Когда среди ночи раздался стук в окно, Семен вскочил первым и прислушался. Дрожащий бабий голос с улицы звал Анисью. Остальных бабиных слов было не разобрать из-за зимней рамы. Он окрикнул мать, та проснулась и сразу, точно и не спала, покорно пошла в сени.
– Не сразу отпирай... опроси сперва, – шептал в ухо ей Семен, а та слушала спокойно, даже не кивнула, что поняла, уверенная, что пришли за ней самой.
Семен прислушивался и угадывал по звукам: мать отперла дверь, и в щель просунулись штыки. Мать вскрикнула, взошли люди. – Семен быстро запер дверь избы на засов и огляделся, ища. Скользнула мысль – бросить в сени гранату, но там была мать. Ищущий взгляд его упал на окно, и вот выход был найден.
Сильными ударами винтовочного приклада он выбивал рамы из окна. Рамы были старые, дубовые – затея домовитого Савелья, когда еще не отпробованы были царские розги. Летели осколки, и уже всходил бодрящий холод в разбитые стекла, – блестела звездами морозная ночь. Под окнами различил Семен людские тени и тихие переговоры их. «Живьем взять хотят...» – понял Семен и последним ударом, зло усмехаясь, выбил расщепленные остатки рамы.
– Сенюшка... так ведь под окном они! – различил он прерывистый шопот матери из-за двери. И вот Семену стеснило в груди, едва вспомнил ее сведенные, сухие пальцы.
– Прощай, мамаша! – отчаянно крикнул он и выбросил за окно все тряпье, какое нашлось на койке, завернутое в шинель.
Под окном, среди людей, разом раздались восклицания, и все скрывавшееся за окном с неистовой поспешностью навалилось на Семенову приманку. В средину той живой кучи метнул Семен гранату и разрядил наган. Почти тотчас же он выскочил из окна и побежал. Его спасли глубокие сугробы, молодые ноги и ночь. Два выстрела не достигли его, а погоню было некому устраивать. – Лишь за пределом опасности, когда от бега зашлось сердце, он сел прямо на снег и так сидел, трудно дыша и обводя глазами ночное поле. Мягко мерцали звездным светом снега. Где-то за Дуплею – волчий лай. Семен все сидел, прислушиваясь к себе самому, к совершавшемуся внутри его перерожденью. Все прежние помыслы о крестовой войне с городом были отринуты. Здесь родился другой Семен, – именно тот Семен Барсук, о котором впоследствии сами собой сложились песни и распевались на ярмарках, на пьяных гулянках, всюду, где поется мужику.
XVII. Егор Иваныч Брыкин выдает свой секрет.
В том и состояло перерождение Семена, что уже не сдерживала его прежняя осторожность. Как волки, заметались по уезду барсуки. Описывали круги, имея целью и центром советское село Гусаки. Четыре раза суживались круги, и четыре раза загорались Гусаковские овины, – отстаивали. И уже не обходилось без кроволития каждый раз.
Передавались изустно слова, якобы сказанные старшим барсуком: «мы председателей в уезде повыведем». Может, и неправда, но три раза до весны безлюдели в округе исполкомы. Выявлялся новый председатель, не больше дней сидел он в нетопленом, запустевшем исполкоме, – срок, в который дотянуться до него невидимой руке Семена Барсука. Под конец унылей, чем на мирскую повинность, смотрели Гусаки на возможность править каким-нибудь из сел той незамиренной округи. Даже выдумал новую угрозу Половинкин непослушным: «вот я тебя председателем в Сускию посажу!».
Отряд Половинкина вырос неузнаваемо, но возрос в неодолимую ораву и Барсуковский отряд, путеводимый теперь самим Семеном. Даже и крутые морозы – лопался лед на Мочиловке – не могли остановить враждующих в их безумных круженьях по снегам. Но встречи их редко оканчивались боем: как будто слишком мал был для их обоюдной ненависти разбег. – Почти вся Барсучья держава жила теперь на походе. В землянках оставалось лишь старичье да болящая команда, возглавляемые Прохором Стафеевым. Кашеварами называла их летучая часть, и те не обижались. Жибанда имел свой отдельный отряд, встречались они с Семеном только дома. То была неправда, к слову сказать, будто председателей убивали. Председателей копили, как деньги, на последний расчет.
А уже февраля бежали резвые дни, запорошенные мокрым снегом. – Все реже смягчала улыбка обострившиеся Семеновы черты, все чаще ходил на опушку сидеть на облюбованном пеньке и угадывать дыханье недалекой весны. Весна означала последнюю ставку, весна сулила исход и оценку всех его предположений и расчетов. – В том же феврале и сообщил Жибанда ему, вернувшемуся из похода, новость, повергнувшую Семена в ярость, тревогу и гнев.
– А Брыкин-то хорош твой! – сказал Жибанда, отворачивая лицо в сторону и подымая бровь. Мишка был чуть только пьян, но лицо его, непокорное ему, беспорядочней и бурней отражало Мишкины настроения и, среди них, неутолимое хотенье какого-то последнего разгула.
Дул мокрый ветер, прояснялось небо, – обещал месяц быть в ту ночь.
– Опять в шапку стрелял? – посмеялся Семен. – Гниль завелась?
– Гниль-то гниль, зубоскаль пожалуй! Копилка сбежала! – «Копилкой» и называли ту землянку, где содержались плененные председатели.
– А дозорным кто у дороги стоял? – и кровь прихлынула к Семенову лицу.
– Васька Пекин стоял... Только ведь они не по дороге пошли. Прямо снегом!
– Лыжи-то откуда же взяли?.. – недоверчиво косился Семен, ускоряя шаг к землянкам.
– У Митьки Барыкова Брыкин брал, будто я велел. А я не велел. Тут еще из Сускии наезжал один, много на Брыкина сказывал.
– Ты куда ж посадил-то его?.. я к нему схожу, – решил Семен.
– Кого это?
– Да Брыкина.
– Вот не понятливый! Да Брыкин и ушел вместе с ними. Только один и остался... ну, вот с отмороженной ногой который!
Они входили в зимницу, захолодавшую и засыревшую за время Семенова отсутствия.
– Затопи, друг, печурку, а? – попросил Семен, проходя к диванчику и валясь на него пластом.
– Можно, – отвечал Мишка и завозился на коленях у печки. Скоро затрещало в ней, усердно раздуваемое Мишкой, и озарились красным светом надутые Мишкины щеки. – Друзьишки, нечего сказать, – говорил Мишка подкидывая в печку дровяной горючий сор, – прямо на голову гадят! Заочно придется Брыкина твоего судить, в острастку; не иначе, как по Половинкинскому приказу гадил. Гниль парень!
– Что Брыкин! Вот и приятель твой намедни пришел ко мне. Клад, говорит, нашел: баба средь нас. Хочешь, спрашивает, приведу? Бери, а то расхватают!
– Юда? – поднял голову Мишка.
– Юда.
Печка трещала во всю. Мишка сел в ногах у Семена.
– Семен... – странно было слышать пьяного, говорящего в таком тоне. Отымешь ты у меня Настюшку?.. Говори прямо, я не боюсь.
Семен не ответил, потому что дверь раскрылась, ударенная снаружи, может быть, тремя сапогами враз, и несколько барсуков проскочило в зимницу. Сильные руки втолкнули во внутрь что-то людское, подобие человека, кучу. Озлобленный и глухой галдеж сопровождал происшествие.
– Входи, входи... – крикнул Семен, отстраняясь от Мишки, и голос его был деланно тверд. Сам он подошел к столу и стал зажигать светильник. Фитиль отсырел. Спичка уже жгла пальцы, а огонь все не зажигался. Он положил остаток спички на фитиль, и тот затеплился чадно, скудно и желто. – Дверь-то закройте, все тепло упустите!
– Ты что?.. – подошел Мишка со стороны. – Случилось, что ль, что?
– Нет, ничего... а что тебе? – Семен оскорбительно обмерил Мишку, но тот заметил, несмотря на хмель, как зарделись Семеновы уши. – Ты, что ль, Егор Иваныч? – наклонился Семен к сидевшему на полу. – Поди, зови, Миша, ребят! – и опять наклонился над Брыкиным. – Судить тебя, Егор Иваныч, будем. Сам знаешь, в лесу, без стен живем... – и уже вторично, уходя, учуял Мишка в Семеновых словах еле приметное волненье.
То были как бы остатки от Брыкина. Его ударили всего один раз, покуда волокли в зимницу, об этом говорил подбитый глаз, но он сам уже разваливался, как зрелый по осени плод. – Егорова душа разлагалась заживо, и сам Брыкин созрел к смерти. – Светильник потрещал и потух, робкое пламя не справлялось с водой, капельками стоявшей по застывшей поверхности жира. Больше светильника и не зажигали, довольствуясь неспокойным красным светом из печки.