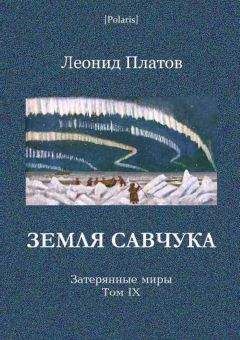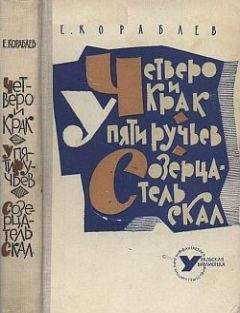— То пережили, пропажу тем более переживете. Деньги — пыль, пфу — и разлетелись. Я бы не знаю, что отдал: руки, глаза, лишь бы отца воскресить, но… А вы — пятьдесят рублей.
— Да ведь на похороны, да на поминки… Потом девять дней отмечала… Назанималась. Продавать почти нечего. Ручная машинка да комод. Машинка — мамина память. Комод — папина. Это еще так-сяк. Начальник не поверил, что вытащили. Как будто я себе взяла казенные деньги. Сказал: уволит. Наши девочки в мою защиту пошли. Стыдили начальника. Дал срок внести деньги за три дня. А где их… Не поверил! Зачем они мне, казенные?
— Обормотов у нас хоть лопатой отгребай.
— Как расплачиваться?! Долги еще не вернула. На что детей содержать? Родных лишилась, теперь надо за ними. Другого выхода нет. Дети меня простят…
— Кому же тогда жить, если не вам?
— Я не особенная. Что была на свете, что не была — никто не заметит.
— Заметят. Кто, конечно, с вами знаком. У вас, по-моему, чистая душа. Я вот вас только вчера увидел…
— Вы не отговаривайте. Никого ни от чего не нужно отговаривать. Кому охота веселиться — пусть, к технике тянет — пожалуйста, желаете умереть — личная воля. В конце-то концов каждый человек имеет право на собственную свободу.
— Имеет. Только не на свободу умирать без необходимости.
— Про необходимость я объяснила.
— Вам необходимо жить.
— Сочувствия для меня — лузга. Когда папа умер, я оставила детишек возле себя — ни о каких детдомах и не подумала, — мне целый самосвал сочувствий навалили, а выпутываюсь из беды одна-разъединая…
В ее высветленных слезами глазах появилось выражение непреклонности.
— Ох, забыла сдать сдачу.
— Дайте серебром.
— Почему?
— Жгется.
— Понравилось?
— Очень.
— Я плитку передвинула. Донце у ящика фанерное, еще вспыхнет. Хотите обратно передвину? Быстро нагреются.
— Бегу. В металлургическом занимаюсь. Вечерник.
— А мне пришлось бросить школу. Ходила в девятый.
— Вернетесь.
— Я не нуждаюсь в предсказаниях. И уже все, все.
— До свидания, Женя.
Трубу из газет и журналов я всунул за отворот пальто. На бегу тер покоробленные морозом уши.
Прошлой зимой, когда мне отхватили аппендикс, лежала в больнице веселая-развеселая девчонка. Мама, видите ли, не позволила выходить замуж. Она возьми и отравись парижской зеленью. Еле отходили. Если весельчачка решилась наложить на себя руки, то печальница Женя тем более решится.
Что придумать? Занять денег? Знал бы, договорился не делать взноса в котел. Мама тоже подождала бы. У нее всегда найдется сотня, припрятанная на черный день. Паршиво — нет свободных денег. У кого же, у кого же?.. У Кирилла? Навряд ли перехватишь: получил, так и метит истратить на книги, радиотовары, рыболовные снасти. Или на благотворительность рассует. У Миши? У него ветер в карманах: купил пальто с шалевым воротником. А, что гадать? Обращусь в кассу взаимопомощи. Председатель кассы Тарабрин — кореш. Скажу: «Спасай, Гошка, человеческая жизнь в опасности».
Но нет, не выгорело у меня в кассе. Оказывается, Гошкину жену положили в родильный дом на сохранение беременности, и он взял отгул, чтобы увезти детишек к тете в деревню. А казначей — тот самый Мацвай, оскорбитель Кирилла — отказался выдать ссуду без Тарабрина. Его толстощекую харю распирала радость. Этот самый верзила Мацвай любит рассусоливать на собраниях: «Мы, рабочие…». Осенью ездили всем цехом за город, Мацвай с ходу выпил бутылку водки и закосел. Куражится, мешает петь, играть в волейбол, рыбачить. Я и еще несколько парней подошли к нему.
— Кончай мешать людям!
А он на нас с кулаками.
Мы связали Мацвая, бросили на солнцепеке. Руки-ноги у него затекли. Из носа кровь пошла. Пожалели. Распутали.
Как их искоренять, мацваев?
Кириллу я не стал говорить про Женино несчастье. По трешнице да пятерке (крупных денег работяги не берут на смену) Кирилл насобирал бы полусотку. У него многие брали взаймы, и ему охотно дадут. Но мне не хотелось втравливать его в новые хлопоты.
Я вспомнил деда Веденея, живущего в нашем подъезде на пятом этаже. При случае занимаю у него. С каждого одалживаемого рубля он берет гривенник. Правда, дает взаймы понемногу: сам на что-то должен кормиться. Может даст четвертную, а еще четвертную нагребу в подъезде. Понадобится, так все квартиры обойду.
Жалко Веденея, хоть и странно знать, что кто-то в нашем городе ссужает деньги под проценты. Пенсию Bеденей получает по старости. Трудовая пенсия была бы сносная, да стаж, как сам говорит, набрать не может. Много лет работал кузнецом при старой власти, потом — в коммуне и колхозе, а это не взято в зачет. После, когда переехал к сыну в Железнодольск, почти постоянно не работал: хвороба одолевала, внуков нянчил. Изредка нанимался в сторожа, и то в тепло. Как засентябрит — увольнялся: холода не выдюживал (всю жизнь ведь в жару), ломота в костях сшибала с ног.
Ютился Веденей на кухне, где топили голландку. Вольготно телу, как в бане на полке. Кроме кухни, и негде было ютиться. Комната одна в квартире; только сыну со сношельницей да с их ребятишками. И то им тесно.
Все бы ничего — сын задурил. С гулящей бабенкой стал вязаться. Она двойняшками разрешилась; хочешь — не хочешь, помогай, двоись. Раскорячился ум у мужика. Взял и уехал на целину. Она, матушка, добра — всех принимает, хоть семи пядей во лбу, хоть никчемушный. Убежать куда угодно можно. От себя вот не убежишь.
Известно, сбился с пути-истины, к хорошему не придешь. Продал с собутыльниками тракторный прицеп пшеницы. Дознались. Упекли. А ведь мастер на все руки. Специальностей куча. С детства владел всяким рукомеслом. От деда выучился кожи выделывать, от дядьев — ободья гнуть, избы рубить, сети вязать, скот выкладывать, охотничать. Ко всему был талант. Взглянет, как кто что делает, и сам уже делает. Изо всей родни такой был уцепистый. И миловидный. Рост — лесина! У нас в роду одни однолюбы, а он каждый год дюжине девок головы крутил. Это б ничего. С жалмерками, с вдовушками даже, крапивное семя, с солдатками путался. Бивали гуртом, нож всаживали, подстреливали. Ничего ему, бугаю, не делалось. Быстро на нем заживало. Из больницы — опять за свое. В армию ушел — вся родня вздохнула. После армии не облагоразумился — гулял напропалую. Годков семь-восемь. Думали перебесится, возьмет жену и ни-ни от гнезда, как голубь от голубят и голубки. Сколько нам писем конфузных с Украины присылали… Ай! Женился. Привез. Писаная красавица! Впору сиди и карауль. А ему… Схлестнулся. Тяжело мне одному. В аптеку за лекарством сбегать некому, бельишко некому постирать. Врагу не пожелаю остаться наедине со своей старостью… Три дочки в колхозе. К ним не подашься. Сами на иждивении. Послал бог сынка напоследок, да и тот не в ту сторону ударился.
Это все я узнал от самого Веденея.
С осени — стыдно! — лишь разок понаведал его. Проклятая занятость. Живешь впопыхах. Зачастую совсем некогда подумать о том, что происходит вокруг и в мире. А как хочется осмысливать жизнь и распутывать клубки сложностей.
10
После смены я не собирался заходить к деду Веденею. Спит. Куры рано садятся на насест, так и старики: чуть завечерело — спать.
Проходя по двору, я вскинул глаза. В дедовой кухне желтел свет. Казалось, окно излучает ласку. Всегда становится лучше на сердце, когда на темном полотне стены с темными прорубками окон горят чьи-то стекла.
За полночь, а у Веденея не погашено. Принимает гостя? Занедужилось? Или дратву сучит и варом надраивает? Случается, что он прирабатывает на подшивке валенок, но это ненадежный заработок. Валенки сейчас носят плохо: кругом асфальт, к тому же другой теплой обуви полно в магазинах — современной, удобной, красивой.
Эх, дед, дед… А ведь сколько ты коней подковал, плугов отремонтировал, ободьев надел, кос отбил! Если б можно было оставить столько оттисков на земле, сколько раз ступали лошади, подкованные тобой, то, наверно, гладкого места не осталось бы на планете. Если бы подсчитать, сколько почвы переворочали твои лемехи, то получилось бы, что из нее слепится шар величиной с Луну. Целая гора железа через твои руки прошла. И не просто прошла. Душу свою ты в нее вкладывал: вовремя бы угольку подбросить, мех покачать, заготовку из горна выхватить, на наковальне отстукать, в корыто для закалки опустить.
Стоит подумать о тебе, и я вижу, как ты мельчишь по тротуару коротенькими шагами в древних кожаных броднях, как висит на твоих осевших плечах махорочного цвета армейский бушлат, как алеет кант на воротнике кителя, как сквозит трещина в лаковом козырьке казачьей фуражки.
Взбегаю по лестнице. Стучу. Шелест упавшей газеты. Сухое туп-туп голыми пятками. Дед. На нем исподнее.
— Заходи, сынок.
Все для него сынки, кто моложе. Поначалу я посчитал, что у него много сыновей, затем догадался, что он называет так даже внуков и правнуков.