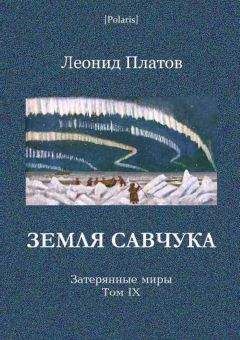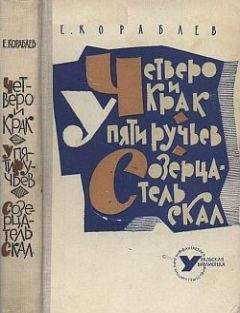— Поварихой.
Кто хахакнул, кто пренебрежительно поморщился, кто скосил презрительно глаза. Староста класса ухнул:
— Дура! Разве это специальность?
Бронислава Михайловна его не поддержала.
— И очень нужная.
И тут Нютка взъерепенилась:
— Как хотите считайте, зато всегда буду сытая. Тятя недоедал, мамка недоедала, сестры недоедали, а я — фиг! Поварихой!
12
Иноходец Васька мчал меня через клеверище. Галоп коня был надрывно широк, и я трепетал, что у него полопаются сухожилия. За нами гналась вся Ключевка. Впереди бежали собаки. Они настигали нас. Их дремучая шерсть спуталась в колтухи, била собак по глазам, и собаки бесновались и прыгали над клевером. За собаками бежала улица. От быстроты на пятистенках гремели крыши, на саманушках и землянках хлесталась полынь. И дома, и сарай, и амбары трясло злобой, и я боялся, что если Васька споткнется и упадет, то они растолкут нас вместе с собачьей сворой. Вымахнула гранитная стена. Иноходец обколупывал ее копытами, карабкаясь вверх, запрокинулся, растворился. Я падал вниз, на нашу церковку, у которой от купола остался железный остов и которая поросла березками…
Этот сон я видел в начальный месяц флотской службы. С тех пор и во сне и наяву Ключевка блуждает за мной. Я свыкся с тем, что она где-то за спиной. Я позабываю о ней на недели, но едва заклацают на шоссе подковы воронежского битюга (Железнодольск обезлошадел, осталось совсем немного ломовозов да полусотня-другая расхожих лошадей) или проедет уборочный грузовик с нарощенным кузовом, или разгляжу где-нибудь в газонной траве козий горох, тут же померещится позади Ключевка. Плывет оттуда тишина, и на ее чутком фоне — шурханье молочных струй в полнящиеся ведра, топоток стригуна, гусиный клик. Накипает тоска, чумеешь от нее, щемяще ожидаешь, когда деревня отстанет и городские грохоты перемолотят ее звуки.
В утреннем морозном тумане, когда я выходил из Нюткиного квартала, Ключевка увязалась за мной: блеяли овцы, звякали трензеля уздечки, насовываемой на конскую морду.
Замаяло меня воображение. Стало быть, пора побывать в Ключевке, засыпанной сейчас снегами и принакрытой кизячным дымком. Но нельзя мне туда податься. Женя погибнет!
А как я люблю навещать Ключевку, особенно осенью. Недолгий путь на тихоходном поезде. Полустанок. Лесная тропа. Горы. К вилючему Кизилу спускаюсь берегом. Пью перекатную воду. Она родниковая и теплеет лишь в летние жары, а теперь, пронятая зимней остудой, холодна, как из проруби. Ломит не только зубы, но и руки: на них, вдавливая в песок яшмовые голыши, держусь над перекатом.
Я не запалился, покамест переваливал хребет. Просто соскучился по кизильской воде: она нежно-сладка, будто сок на тальниковом прутике, когда снимешь ременно-мягкую кожицу.
Я медлю прежде чем подняться. Перекат галдит. Зубчатыми струями, распускающими крылья обочь камней, он ломает, дробит, швыряет отражение горы, янтарно-оранжевой от берез, лимонно-желтой от лиственниц, рубиновой от гроздей рябин.
Я рад этой немолчной воде, цветному биению отражений и цепочке красных камней, протянувшихся на тот берег, поверх которого я вижу крыши деревни.
Обыкновение Ключевка. Ее улица изогнулась в кольцо около озера. Веерообразный ветродвигатель, скворечники, стога.
Обыкновенна, а нет сил не наведываться. Живешь в Железнодольске, скучая и печалясь о ней, и вот она заарканит тебя оттуда, из-за гор, и потащит, и скоро ты уже входишь в нее, где и родных-то не осталось, а все она тебе самая близкая.
Пойдешь на могилу отца. Мальчишки увяжутся за тобой. Ссекают шишечки кровохлебки, сражаются лозинами, швыряют, как гранаты, кукурузные початки. На могиле деревянную пирамидку, сизую летом, позеленил мох. Тополь, посаженный мамой, высоко вырос, раньше всех отряхнулся; листья только на вершинных побегах, жужжат. Кладбище по-прежнему крохотно: возникают свежие могилы, старые скрадывают разливы, дожди, ветер, растительность.
Возвращаюсь в деревню, обхожу знакомых. Гаврилиха трясет в зыбке ребеночка. Внук. Петров сын. Струи пускает до самой пружины. Улыбается Гаврилиха, широкий лоб, широкий нос, широкий рот. Из сеней заглядывает ее мать. Одно плечо перевешивает другое, потому что она разноногая — подсеклась на косе. И сама Гаврилиха, и ее мать для меня старухи. Так и кажется, будто они и появились на свет старухами.
У Лихоимовых домовничают девчата. Чернявые, с капроновыми бантами в косичках. Старшая, пятнадцатилетняя Валентина, уже невестится. Вижу, стыдится меня, но оценивает: как-никак, холостяк.
Степан Дудак бригадирствует в тракторном отряде. Маракует на тетрадном листе, какие запчасти потребуются для зимнего ремонта. Он знает, что я делаю обход и надолго не задержусь, и спешит выговориться. Собирается переезжать к батьке на Украину. Батька имеет дом, сад и автомобиль «Волгу». Собирается Степан переезжать двадцать лет и все не соберется. Детей у него чуть ли не дюжина. «Нехай живут». Как и раньше, он пьет от желудка чайный гриб и нахваливает его всем приходящим. Степан было направляется к бутыли, накрытой марлей (в бутыли зыбится рвотно-скользкий коричневый гриб), чтобы угостить меня всеисцеляющим напитком, но я отмахиваюсь, зажав рот ладонью. Степан растерянно садится к промасленной тетрадке.
На Ключевку он набрел весной сорок пятого года. Был в полубеспамятстве. Довели голодания и простудная хворь. У околицы Степана встретила пасшая телят Гаврилиха.
Всплеснула руками:
— Худой-то! Чисто дудак!
Отвела в землянку. Вечером в бане обтрепала об него березовый веник. Плеснет на каменку ковш воды, стегает по всему телу, приложится ухом к сердцу: стучит! Опять ковш на каменку и дальше стегать. Выгнала простуду из парня. Был он без паспорта и военного билета, однако заведующий молочной фермой, выведав у Степана всю правду, разрешил ему остаться в деревне.
Работников в Ключевке было двое, и те неполноценные: сам заведующий, маявшийся головой (снайпер под Ленинградом каску пробил, пуля встала впритык к мозгу), и старик Савельич, увозивший на маслозавод утрами бидоны со сливками. Савельич говорил Степану:
— Ты у нас за первый нумер, покуда мужиков из армии не отпустят. Старайся.
Степан прибился к Надьке Сыровегиной — конопатой высоченной девушке. Шибче стал беспокоиться, что приедут и загребут.
Вскоре после окончания войны нагрянул в Ключевку пожилой милицейский лейтенант из района. Затребовал Степана к заведующему в дом. Надька выла на всю деревню. Угнал милиционер в город на своем запряженном в ходок меринке далеко за полночь. Степан повеселел. Походка наладилась. То все ходил крадучись, готовый улизнуть за строение или схорониться в траве, среди кочкарника, меж пирамидками кизяка. Гаврилиха радовалась:
— Разогнул спину Степка. Помаленьку все ушомкается и быльем порастет.
Я бегал за Степаном на озера. Туда он ходил стрелять лысух и нырков.
Однажды, когда поджидали из камышей уток, он рассказал про Норвегию, куда был привезен военнопленным и где, убежав из лагеря, партизанил. Мне представляется с той охоты, как он прыгает по скалам, а в ущелье на дороге горит немецкий грузовик. Еще ярче я представляю лицо Степана: оно в каком-то лихом порыве и на щеках румянец отваги.
Прозвище «Дудак» так с легкой руки Гаврилихи и прилипло к Степану Можайко. Обо всем, что касается его хозяйства и семьи, в Ключевке говорят: «Дудаковы гуси пощипали», «Дудачиха намедни сынка выкатила».
Ночевать отправляюсь к крестному Архипу Кочедыковичу — похвастает новыми веретенами, скалками, толкушками (точит в свободные минуты на ножном станке). Приладимся в горнице перед уличным оконцем. Откровенничаем, балагурим с прохожими. Утром, оттаивая от хмелька, подамся на станцию.
Вдавливая в песок те же яшмовые голыши, наглотаюсь перекатной воды.
Удивительная во всем прозрачность: в реке, в береговых красноталах, в звонкозвучии куличных криков.
С камня на камень. По гальке, лопушнику, бересклету. Близко лес, он заслонил деревню. Оглядываюсь. Береговая дорога, долина, у начала которой угнездилась Ключевка…
…Рассветный туман, покамест я шел из квартала Нютки, просветлел, явственней стало для взора, каким жестким морозом обложен город. Коленки больно калит холодом. Спешу на шаровидный ореол наружной лампочки подъезда.
Прислушиваюсь, гонится за мной Ключевка или запуталась в тумане. Около подъезда поворачиваюсь. Оранжево, мохнато лучатся сквозь пар окна. Ключевка — следит, наверно, из тумана — пододвинула под мои ноги береговой гребень Кизила. К деревне, тяжко склонясь вбок, ползет грузовик с сеном. На возу сидит старая дева Шура Перетятькина. Она держится за черенок воткнутых вил. Узнав меня, она встает и машет. Зеркально блестит на ее животе пряжка флотского ремня. Славная она, Шура, и чуток смешная. Сколько помню, она всегда любила широкие ремни с крупными пряжками. До того, как я подарил ей свой черный флотский ремень, носила армейский, офицерский, только пряжка дюралюминиевая, сделанная под вид орла.