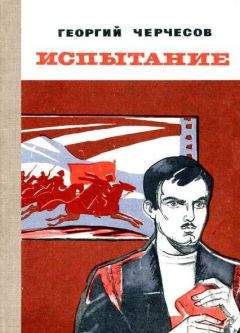И вот теперь спустя годы доктор Дзугова слушает мистера Тонрада и убеждается, что его взгляды ничуть не изменились.
— …Я предлагаю благородный — ибо он затронет в одинаковой степени всех и каждого, будь он миллионер или нищий, умница или дурак, старик или младенец, — и единственный, — подчеркнул Тонрад, — проект сделать человечество счастливым. Каким образом? Чтобы ответить на этот вопрос, определим вначале, что такое счастье. Это удовлетворение своей семьей, домом, машиной, детьми, это покой и укрощение желаний…
„Удовлетворение“, — несколько раз повторил мистер Тонрад и заявил, что в силах ученых отыскать способ воздействия на мозг людей таким образом, чтобы они были удовлетворены своей жизнью, перестали роптать, бунтовать, жадничать, накапливать деньги, завидовать, чтобы ими овладел покой. Можно отработать и чисто техническую сторону проблемы воздействия, например, путем распространения по всему миру специального газа.
Их беседу прервал советник посольства, обратившийся к Дзуговой:
— Простите. Делегация отправляется устраиваться в отель…
— Как я сегодня слышал, вы всю войну мечтали о тишине, миссис Дзугова, — усмехнулся Тонрад. — А дали согласие поселиться в „Синеве сна“. Это отнюдь не лучший выбор: отель находится в центре города, вокруг адский шум. Я могу вам порекомендовать другой, чья прелесть в том, что он расположен на лоне природы, в царстве тишины…
— Да, но „Синева сна“ уже забронирована, — замялся советник.
— Это я улажу, — заявил Тонрад. — Мистер Ненн — мой близкий друг. Одну минутку, — он поспешно отошел…
…Зареме бы отказаться от предложения, сделанного мистером Тонрадом. Но разве человек знает, где его поджидает беда? Зарема не только не насторожилась, но более того: когда Тонрад предложил ей пересесть в его „форд“, согласилась. Они намного обогнали автобус с делегацией. По дороге, ловко управляя лимузином, Тонрад продолжал развивать свою идею…
— Вы пытаетесь переделать общество, а через него и чело века. А я наоборот: сперва выкорчую из него все дурное, — и общество станет другим. Но у меня появились враги. Что противопоставляют они моей теории? Мораль, этику, право, — Тонрад неожиданно рассвирепел. — Человек на каждом шагу попирает право и мораль. Любая страница истории наполнена убийства ми, кошмарами, подлостью. В войне ежедневно гибли тысячи людей — это воспринималось как должное. Стоило же мне вслух заявить о том, что необходимо воздействовать сразу на всех, как. в ответ заявляют, что, мол, не все захотят потерять свою индивидуальность… Но когда надо спасать миллионы, все человечество, весь мир, — тогда не до жалости отдельных индивидумов» как бы они нам дороги ни были…
Последняя фраза мистера Тонрада наотмашь ударила Зарему. Недавно закончившаяся война советскими людьми тоже велась во имя спасения миллионов. Среди павших ее заботливые и нежные муж Василий и сын. Как же не жалеть их?..
… Сын… Сын… Где взять силы, чтоб продолжить жить, дышать воздухом, видеть синеву неба, когда у тебя все это отнято? Как забыть тот день на стыке апреля и мая, когда нежная зелень листьев, цепко ухватившихся за ветви исковерканных, полуобгорелых деревьев, слабый ветерок, отравленный гарью пожарищ и руин, осколки небесной синевы, проглядывающей сквозь пробоины стен, и хлопья густого дыма кричали о возрождении; и жизни? Кричали, несмотря на стоны, гулкие взрывы, содрогавшие пол и потолок, несмотря на длинные захлебывающиеся в нетерпеливом стремлении убить пулеметные очереди, — несмотря на все эти противные человеческому слуху звуки, вся природа пела о торжестве любви и света, наполняла землю, воздух, людей бодростью и сладкой истомой. Он, этот весенний, один из последних дней войны, врезался в память Заремы безжалостной подробностью. Их полковой госпиталь был развернут на самом переднем крае, на нижнем этаже полуразрушенного особняка, тесно обставленного громоздкой мебелью с вензелями на спинках и ножках.
Когда медсестра заявила, что пульс у раненого слабеет, Марии опять стало плохо. Заметив, что она пошатнулась, Зарема приказала ей выйти отдышаться. В этот май силы у всех были на исходе: и у тех, кто находился на переднем крае, и у тех, кто был глубоко в тылу, и у них, врачей и медсестер. И никто не смел расслабляться, тем более хирург, у которого и сила, и воля и внимание должны быть все время в высочайшем напряжении, ибо любое отключение ведет к гибели человека. Зарема порой по двое суток не отрывалась от операционного стола и, нахмурив черные брови, пронзительно всматривалась в зияющую рану, тонкими, просвечивающимися в кистях руками цепко держала скальпель, врезаясь им в живую ткань. Лишь по тому, как она переступала затекшими от долгого стояния ногами, как опиралась боком о стол, пока уносили одного и готовили другого раненого, Мария догадывалась, чего стоили Зареме эти часы…
Когда было особенно тяжко, когда казалось, что нет больше ни физических сил, ни воли переносить боль и смерть людей под скальпелем, когда перед глазами начинали мелькать черные круги, — тогда Зарема вспоминала последнюю ночь, что провела она в своей институтской лаборатории, пытаясь завершить опыт, который отнял у нее ни один месяц довоенной мирной жизни, — вспоминала, и ей становилось легче при мысли, что скоро к ней возвратится все: и лаборатория, и новые исследования, и радость поиска, и все то, что было оставлено. А в войну надо спасать людей, и она день за днем, ночь за ночью резала, вскрывала, выколачивала осколки да пули, выпрямляла суставы, — а порой в ответ вместо благодарности ее сквозь стиснутые зубы крестили в три этажа, и не было сил ни возмутиться, ни дать достойный отпор…
В тот день у Заремы было ровное настроение. Верилось, что счастье близко: все дышало победой, нашей победой. Пригнувшись больше от щедро сновавших в воздухе осколков снарядов и пуль, чем под тяжестью плащ-палатки, в которой постанывал раненый, четверо солдат поспешно пересекли улицу и, сбиваясь с ритма шагов, втащили ношу по парадной лестнице в здание, а затем, перешагивая через носилки с ранеными, теснящиеся на всем пространстве зала, пытались пристроить своего товарища поближе к простыне, которой была отгорожена операционная. Санитар Сидчук подбежал к ним и заорал:
— Ставь, где стоишь! Ставь, где стоишь! Не при вперед! Здесь тоже очередь. Вишь, сколько ждут. И не за вафельным мороженым. Поставили — и айда отсель, айда! Нечего вам тут торчать!
— Это ж наш ротный! — сказал один из бойцов и умоляюще поглядел на санитара. — Ты бы его оразу к хирургу, а? Осколкам снаряда его в живот — всего вывернуло…
— Да вы что? — взбеленился Сидчук. — Думаете, раз однажды удалось ей откачать мертвеца, — так она всех с того света вытянет?! А ну айда отсель! — он энергично стал выталкивать за дверь онемевших от такого напора солдат. — При такой ране хоть делай, хоть не делай операцию…
— Что мелешь, старый дурень?! — разъяренно выругался солдатик со шрамом через всю щеку. — Это тебе не жить! — палец его лег на курок автомата.
Присевшая на пол у окна, жадно глотавшая свежий воздух Мария подняла голову, устало сказала:
— Зачем кричать? Что можно будет — сделаем… Оставь их, Сидчук, пусть ждут, коли хотят…
Солдатик вмиг успокоился, а Сидчук стал ему выговаривать зло:
— Испугал… Да, может, я рад был бы, кабы ты ошпарил меня до смерти огоньком своим. Зараз бы умер. А здесь с каж дым отходящим душа изматывается. Что хуже — еще посмотреть надо, — и повернулся к Марии. — Слаба ты, сестрица. О всех не наплачешься. Хочешь людям помочь — броню на себя надень. Тебе муторно, невмоготу, — а ты терпи. Панцирь надо иметь, — он склонился над носилками, стоявшими возле Марии, просто сказал: — Отсядь в сторонку, Мария, — и позвал санитара-напарника. — Этого уносить надо.
Взгляды всех раненых скрестились на Сидчуке. Беспомощные, они, кто испуганно, кто зло, а кто и недоверчиво следили за тем, как он бесстрастно и деловито, без привычного случаю скорбного выражения лица натянул шинель на лицо бойца и, прежде, чем поднять носилки, встряхнул их, укладывая понадежнее ношу. От обыденности движений Сидчука повеяло на всех ознобом смерти. Боец с перевязанной головой не выдержал, закричал хрипло:
— Дядько, проверь — вдруг живой?
Сидчук знал, о чем подумали солдаты: вдруг и их вот так: запросто вынесут отсюда, в двух метрах от спасительного операционного стола, и не дай бог еще живых! Он зыркнул на болтуна сердитыми глазами.
— Пятый год при госпитале. Как-нибудь мертвеца от живо го отличу…
По возвращении в зал Сидчук решительно остановился перед. Марией.
— Чего ты, Сидчук? — вяло посмотрела она на него.
— Вот, отдать надо, — вытащил он из кармана рубашки конверт и кивнул в сторону простыни. — Ей.
Мария боязно взяла изрядно помятый конверт, тревожно повертела в руках, разволновавшись, лихорадочно разорвала его, впилась глазами в строчки извещения и схватилась за сердце: