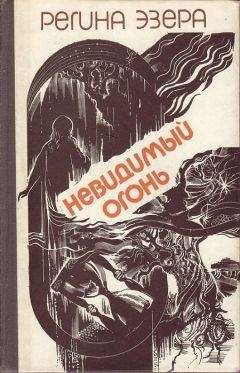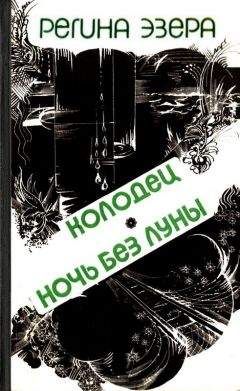Ну, чего им в жизни сейчас не хватает? Разве у них не с лихвою, не с избытком всего, о чем они раньше мечтали, на что собирались копить? Годами откладывать по рублю, по копейке, экономя на всем, чтобы со временем, в пожилом возрасте, когда они будут седыми и больными, приобрести то, что есть у них уже сейчас, когда они оба еще молодые и здоровые, когда им обоим только жить и жить… Наслаждаться жизнью взахлеб…
А тут, боже мой, да разве это жизнь? Слоняться, торчать у дороги, как собаке в ожидании своего хозяина и повелителя, никогда не зная, в каком настроении он явится — приласкает или, быть может, пнет ногой? Торчать ей, которой восхищаются и которой завидуют, наследнице Лиготне, как ее называют просто зеленые от злости знакомые и подруги во главе с милейшей золовкой! Ей, которая плавно мчит мимо всех на своей шикарной экспортной «Волге», на какую сплетницам, так рьяно перемывающим ей косточки, сколачивать и копить до последнего часа своей жизни, до последнего вздоха и все равно не собрать и не скопить… не видать им такой машины как своих ушей, этой голытьбе и глазам завидущим! Ей, всегда элегантной, умеющей носить одежду с аристократической небрежностью, ей, которую директор школы называет первой дамой Мургале! И хотя обычно это говорится несерьезным тоном, полушутя, разве в словах красавца Каспарсона не кроется подтверждение того, что Велдзе отличается от других женщин и в каком-то смысле выше их, и это очевидно. Не видит этого только собственный муж…
Ну ладно, хватит. Она коротко провела по лицу прохладной рукой. Надо настроиться по возможности мирно, зачем зря себя растравлять. Если начать с упреков, так можно все испортить. У Ингуса, как всегда, тут же найдется тысяча и один довод в свое оправдание, и все превратится в заурядную будничную перебранку. Надо принять какую-нибудь таблетку, чтобы не дрожали руки и голос. Смешно, как будто бы провинилась она. Что бы, интересно, сказал и подумал Ингус, знай он, что у Велдзе сейчас дрожат руки, как перед встречей с высоким и грозным начальством? Вселило бы это в него жалость и нежность? Или совсем другие чувства? Возможно, он ощутил бы удовлетворение, ведь мужчине время от времени просто необходимо заявить о себе, а самоутверждение мужа с большей или меньшей силой бьет по терпению и нервам жены.
Велдзе вошла в прихожую, где был зажжен свет, но так и не погашен: на крючке болталась мужнина куртка, зацепленная не за вешалку, а вздернутая за подкладку. На полу валялся и голубой мотоциклетный шлем. Она перевесила куртку как следует, прицепила за ремешок и шлем; за стеной слышалось монотонное бормотание матери, слов не разобрать, так что непонятно было, с кем говорила мама — с Эльфой ли, Ингусом ли, возможно, сама с собой. Нет, все-таки с Ингусом, она это сразу увидела: мама стояла против него, едва доставая ему до плеча — щуплая, высохшая старушка, — и усердно терла носовым платком, чистила ему грудь. А тот смотрел сверху вниз, и в бородатом его лице, отупелом во хмелю, сквозили пренебрежение и гадливость, смешанные с сочувствием и жалостью.
«А если он и на меня смотрит такими глазами?» — вдруг подумала Велдзе.
— Кровь… — монотонно бубнила мама, продолжая заботливо оттирать ему на груди рубаху. — Кровушка…
«Кровушка!» — наконец достигло слуха и сознания Велдзе страшное слово, и, забыв о своем решении вести себя как можно сдержанней и спокойней, она с внезапным ужасом вцепилась мужу в рукав так, что пальцы прямо впились в сильную руку.
— Ты ранен?!
На серой клетчатой ткани расплылось красное пятно — с левой стороны, примерно там, где сердце.
— Ингус… милый! — выдохнула она чуть не в беспамятстве, а он, запрокинув голову и блестя зубами, пустил громкий короткий смешок.
— Как две курицы, точно! Это кагор, Велдзе, — сказал он и оттолкнул мамину руку. — Идите спать, муттер. Хватит! В бак надо бросить рубашку. Платком тут ничего не сделаешь.
— Дай, я отвезу в стирку, — тускло проговорила Велдзе и отстранилась от мужа, однако не уходила, а молча наблюдала, как он чуть неуклюже стаскивал через голову рубаху, зацепив и стягивая заодно и майку, и остался голый по пояс и растрепанный — кожа так и лоснится при электрическом свете, чуть не лопаясь на буграх мышц от натяжения, словно еле вмещает плечистое тело. И, все еще во власти пережитых страхов, как бы видя на этой блестящей коже свежий багрец раны, Велдзе ощутила сосущую пустоту под ложечкой и даже легкую дурноту, так как не выносила вида крови. А ведь сколько раз, прямо-таки искушая судьбу своим ухарством и безрассудством, Ингус бывал всего на волосок от беды, нимало не горюя о том, каково это ей, жене.
Его взгляд обратился в Велдзе.
— Чего ты так побледнела, дорогая? 'Замерзла?
Она встрепенулась: сейчас надо сказать… поговорить теперь же…
— Ингус, — начала Велдзе, — тебе не…
— А черт! — вскричал он. — Да где моя полосатая рубашка? Не могу же я так стоять — голяком! Я тут ее вроде утром повесил, на кухне…
Велдзе почувствовала, что у него из головы она уже выветрилась, — сам же спросил, завел речь, но даже не дождался, чтобы ответила. А если она больна? А если ей плохо? Ему начхать. Пошел искать рубаху, вернулся, застегивая, зевнул во весь рот, явным образом уже забыв обо всем.
— Пойдем спать, а?
— Есть ничего не будешь? — суховато спросила она, в глубине души задетая и разочарованная, и в горле у нее застрял горький комок.
— Чего-то не хочется, — признался он и виновато скосил глаза на Велдзе.
— А вы там… и ели?
— Вроде бы да. Но что ели, хоть убей не помню.
Ингус широко улыбнулся. Но Велдзе не ответила ни словом, ни улыбкой, повернулась и так же молча стала вынимать из духовки ужин, оставленный там для Ингуса, чтобы не остыл.
— У тебя там что-нибудь вкусненькое? — примирительно спросил он, даже во хмелю, наверное, замечая напряженность Велдзиного молчания, грозившего прорваться криком и упреками, чего ему, вероятно, не хотелось: ударившие в голову винные пары настраивали его скорее на миролюбивый лад, чем на воинственный, если, конечно, кто-нибудь сам не нарывался.
— Не знаю, что там мама тебе оставила, — бесцветно проговорила Велдзе, хотя ужин в духовку ставила сама и знала досконально, что там котлеты с соусом и жареная картошка. — Ну что, подавать или нести в кладовку?
— Если ты закусишь со мной, буду есть, а если нет — пошло оно все к бесу! — сказал он с потешным, прямо-таки детским упрямством выпившего человека, однако эта грубоватая нежность прорвала в Велдзе как бы внутреннюю плотину, и, к удивлению мужа, да и к собственному удивлению, она не рассмеялась, а вдруг залилась слезами.
«Это нервы. Ничего же не случилось, — подумала она в третий раз, судорожно всхлипывая. — Проклятые нервы…»
Велдзе негодовала на самое себя: она так хотела, так старалась сохранить выдержку, хладнокровие, а слезы ее подвели, выдали тайное отчаяние, но отчаяние — это слабость и бессилие, отчаянием ничего не добьешься, не возьмешь, его можно только выплакать в одиночестве, как плачет волчица, воя на луну.
— Велдзе, милая! — испугался Ингус. — Что с тобой, женулька? Нелады на работе?
Она молча помотала головой.
— Я устала… ах, как я устала, — без видимой связи повторяла она, не в силах выразить, от чего она устала, да и не очень веря, что Ингус поймет.
— Ты слишком много ишачишь, точно! — горячо поддержал Ингус, действительно не понимая, что Велдзе измучилась просто от жизни, какую они вели, от вечных страхов и ожиданий, неопределенности и неясности — от всего того, что женщину сушит и изнуряет во сто крат больше, чем самый тяжелый труд.
Ингус обнял ее и привлек к себе. И сквозь винный перегар Велдзе почувствовала дух бензина и табака, здоровый запах мужского пота, ее обволокло живое тепло сильного тела, под рубашкой у самого ее уха гудело мужнино сердце, отдаваясь в груди низким и ровным стуком больших часов, и все это вместе — знакомые запахи, близкое тепло объятий и спокойное гудение крови — слилось в ощущение тихого счастья, которое, очень возможно, было самообманом и ложью, как и многое другое, что ей уже довелось испытать. У нее мелькнула такая мысль, но Велдзе ее прогнала, отдаваясь сладости мгновенья. Главное — они живы и молоды, в их власти превратить свой дом в ад или рай, и только от них самих зависит, как…
Над ухом у нее Ингус сладко зевнул. И Велдзе — в кольце его рук — охватило вдруг глубокое одиночество. Она поспешно высвободилась из объятий, которые казались ей теперь холодными и фальшивыми, и, снова мучаясь сомнением, заводить ли сегодня вообще этот разговор, спросила у мужа сигарету и со странным отчуждением наблюдала, как он неловко и усердно шарил по карманам, потом наконец, нашел пачку и вытряхнул одну сигарету ей, другую себе. Они молча закурили. Велдзе догадывалась, что мыслями Ингус где-то далеко и, наверное, вообще успел позабыть, что она плакала и что он так и не выяснил о чем.