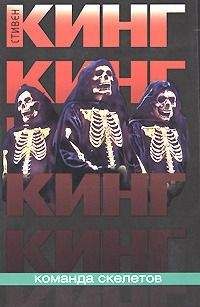— Боюсь? — удивляется Гела и вдруг чувствует, как от страха мороз продирает его по коже.
— Боишься! — смеется очкастый. — Конечно, боишься.
— Чего мне бояться? — пожимает плечами Гела, а сердце у него бешено колотится, кажется — вот-вот выпрыгнет из груди.
— Эх ты, трусишка! — смеется очкастый.
Когда человек с противогазом впервые привел Гелу в хижину, очкастый разволновался, растерялся, перепугался, как девушка, в первый раз оставшаяся наедине с предметом своей любви. «Вот от чьей руки я должен умереть!» — думал он в неописуемом возбуждении, так же как девушка думает о своем любимом: «Вот тот единственный, кому я буду принадлежать». Но, в отличие от влюбленной девушки, он старался вызвать в душе у своего предмета не ответную любовь, а ненависть и презрение, потому что лишь ненависть и презрение могли заставить Гелу подчиниться его воле, пожертвовать ради его безумного желания своей чистотой, беспорочностью, невинностью. Он сам себе удивлялся: откуда в нем бралось столько желчи, злобы, яда, столько мерзости, но с тем большей страстью, с тем большей настойчивостью он порочил, осквернял, обливал грязью все, что могло быть дорогим и священным для Гелы, из-за чего Гела мог удержаться от греха решиться на преступление. Ни о чем другом очкастый не мог больше думать, неотступно стоял у него перед глазами Гела — запачканный его кровью, онемевший от ужаса, потрясенный, но уже навеки прикованный к его трупу, к его имени, его убийца и поэтому его единственный преемник и наследник, единственный хранитель его памяти, пусть даже вспоминающий его с презрением, с ненавистью, с проклятиями. В смятении и тоске и в то же время с чувством неизъяснимого блаженства предвкушал он смерть, как девушка — первую ночь любви; с головой закрывшись шкурой, замирая и затаив дыхание, ждал он нетерпеливо, когда наконец нагрянет пылкий любовник, супруг и повелитель, и соединится с ним навеки. А Гела, правда, иной раз прицеливался в него из револьвера (подаренного им же самим), но дальше этого не шел. На большее не осмеливался. Берег себя или на себя не надеялся, не годился еще на такое дело. Наводил револьвер на спящего, брал его на мушку и так отводил душу, довольствовался этим. А очкастый трижды заживо кончался при этом, обливался холодным потом от ярости и тоски и, истомленный напрасным ожиданием, озверелый от неудовлетворенной страсти, повторял в уме как безумный: «Рукоблудник! Онанист! Рукоблудник!» А потом понемногу редел густой, напитанный человеческим и скотским дыханием мрак, и еще раз всплывали из омута небытия, из тины небытия бледные, бескровные лица его друзей, гнетущие, страшные, непереносимые, словно прибившиеся к берегу утопленники, и он, еще раз — в который уже раз — обманутый в своих надеждах, снова изливал яд, поносил все и вся, желчный, злобный, яростный, как жена скопца или оголенная без нужды, лишь для потехи потаскуха. Он не жаждал смерти, но ему опротивела, стала невыносимой эта, нынешняя его жизнь, и все свои надежды и упования он возлагал лишь на другую, новую жизнь, которая должна была начаться после смерти, в новом воплощении. Смерть была неизбежна, необходима, чтобы вернуться на землю в любом обличье, хотя бы в образе вороны, но особенно обидно было то, что ему и умереть не удавалось так, как он хотел. Смерть от руки безгрешного юноши, ребенка, многое означала, в ней заключалась мысль, и мысль, притом, важная, успокоительная и несущая удовлетворение, поскольку лишь этим путем мог он убедиться, что смог что-то совершить, чего-то добиться — растлить хотя бы одну непорочную душу. Эта прожитая им жизнь не оправдала себя. Он знал, что на его могилу не положат даже плиты с надписью, которая удостоверяла бы, что под нею покоится прах такого-то, или его бренные останки, или просто его труп. А покоящийся в безымянной могиле есть никто и ничто; он как бы вовсе не рождался на свет, не жил, не знал тревог и треволнений, не метался, не плакал до того, как превратился в покойника, в бренные останки или попросту в труп. Он как отбывший наказание человек, которому не засчитывают годы заключения, потому что его имя пропустили в тюремном журнале. Каково? Так и очкастому не могла быть зачтена вся прожитая им жизнь или все то, ради чего, по причине чего и в силу чего он должен был умереть. Все оказалось на деле не так, как ему представлялось вначале; или он полагал, что хоть что-то окажется иным, не таким, как на самом деле. Его товарищи увивались за женщинами, красиво одевались, откладывали завтрашние заботы на завтра и переходили из ресторана в ресторан, как из одного возраста в другой — попросту говоря, им не было никакого дела ни до душной среды, ни до быстротекущего времени. А он зарылся в книги, он вгрызался в книги как червь, пока не добрался до самого дна, чтобы окончательно убедиться в собственном невежестве. Так ему и сказала книга: «Ты глуп. Ты раб. Из земли ты взят и в землю обратишься».
— Дерево, которое не принесет доброго плода, будет срублено и брошено в огонь… — шепчет очкастый. — Вот что такое Христос! Вот почему распяли его твой названый отец и его верный холоп. Понятно тебе? Понятно? — не спрашивает, а умоляет он Гелу.
— Нет, не понятно, — с досадой, но вполне искренне отвечает Гела.
Он не переварил еще и того, что его только что назвали трусом, и стерпел это, ничего не ответил; но промолчал он не из трусости, а просто потому, что потерял вдруг всякую охоту разговаривать с очкастым. Чтобы поддерживать такой разговор, он должен и сам вступить в эту игру, где все сражаются против одного и один против всех. Но ведь если он оказался взаперти в этой хижине, то именно потому, что хотел избавиться от подобной арифметики, выйти из такой «игры», но, по-видимому, и здесь, в «краю бездорожья», все определяется ее всеобъемлющими правилами, а не желанием играющих, желание подчиняется правилам, а не правила — желанию. Тем временем в котле понемногу плавится снег. Тяжелый чугунный котел словно придавил собой огонь; и пламя, сплюснутое под ним, беспомощно бьется и перебирает конечностями, стараясь выбраться из-под груза, словно какое-то существо с множеством лап и щупальцев. «Расплющенный огонь», — думает Гела. Шипит, трещит, извивается пламя, выламывается раздробленными суставами. Над котлом, полным снега, поднимается клубами пар. Снова, как несколько минут назад, появляется призрак отца — на этот раз он висит над котлом, в клубах пара, как в облаке слез. Стоит в воздухе, скрестив на груди руки. Нахмурясь, то ли печально, то ли обиженно смотрит он на сына. Геле совестно: зачем он перед тем кричал на отца, смеялся над ним, — но он упрямо не отводит взгляда, смотрит в глаза отцу. Смотрит дерзко, вызывающе, но при этом едва удерживается, так ему хочется попросить прощения за свою давнишнюю, лет десять — двенадцать тому назад проявленную, а еще пуще — за давешнюю, сегодняшнюю жестокость и безжалостность. Желание повиниться понуждает его к дерзости, к грубости. Извинения не сблизят, а еще больше отдалят друг от друга отца и сына; ни отцу, ни сыну они не принесут никакой пользы, так как отец уже стал на колени. Десять лет тому назад он вернулся домой навеселе и слишком поздно заметил, что в прихожей плохо вытер ноги; и уважение к чужим порядкам, к неуклонно соблюдаемой чистоте чужого дома, да еще его мягкость, его почтительное, робкое отношение к этому дому и его хозяевам заставили его стать на колени, чтобы стереть, уничтожить собственные следы. Наверно, роль отца была ему еще непривычна; или, смущенный своим невольным прегрешением, он забыл на минуту, что стал уже отцом, что у него подрастает сын, который наблюдает за каждым его шагом и в памяти которого каждый его поступок запечатлевается навсегда. Забыл — и погиб, потому что показался сыну таким, каким ни в коем случае не должен был показываться: стоящим на коленях, уничтожающим собственный след! Забыл — и погубил своего сына, потому что в душе у того остались лишь отпечатки его перепачканных в известке ступней, отпечатки, которые нельзя ни стереть ветошью, ни смыть, ни замазать краской. «Торчи тут и ешь это мясо, пока его дают тебе из милости!» — говорит отец, висящий в облаке пара. Возможно, что он говорит это, как при их последней прогулке вдвоем, старому льву в клетке тбилисского зоосада, но Гела принимает отцовские слова на свой счет: во-первых, он и сам вот уже сколько времени ест мясо, которое дают ему из милости, а во-вторых, он страстно жаждет, чтобы отец обращался именно к нему, чтобы отец был заинтересован, обеспокоен, пусть даже разгневан именно его судьбой, а не участью льва, которого, собственно, не за что жалеть или осуждать, потому что он не заключенный, а пленник и содержится в плену не по причине его слабости и ничтожности, а именно из-за его могущества и величия. «Как же мне быть? Что делать?» — спрашивает он сразу, чтобы втянуть отца в разговор, чтобы отец отругал или успокоил его, что, в конце концов, является его обязанностью как отца — все равно, живого или мертвого.