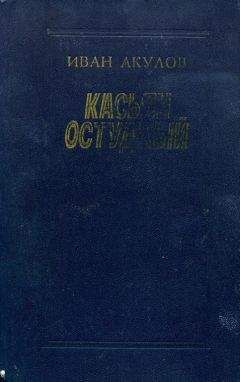— Ходи-бегай!
После этих слов Осман вдруг встрепенулся, захлопал в ладоши, в глазах его притеплилась ласковая хитреца.
— Камилка, — позвал он, — гармон давай. Кадыр песням поет. Мы слушай давай. А? Пара бир.
Камилка вынесла в избу маленькую гармошечку, слева у которой было всего четыре кнопки, а справа десяток стершихся под пальцами ладов.
Кадыр поставил гармошку на колени и, подбоченившись, заметнул ремешок на плечо. Лицо его, умягченное хмелем, сделалось вдруг замкнутым, от грубо проступивших скул и скошенного лба, обтянутого тугой желтой кожей так и повеяло дикой кипчакской степью. Кадыр хорошо знал татарские наигрыши на маленькой гармошке и умел петь блеющим мальчишечьим голосом, округло вытягивая свои заветренные губы. Но сейчас он по-особому обрадовался гармошке, потому что спеть ему хотелось не татарское, а на русском языке якутскую песню, которой он выучился на Вилюе от русских старателей. Он угадывал, что удивит гостя Оглобельку и тем самым вызовет восторг у всех пьяненьких и детски доверчивых земляков. Предвидя успех, Кадыр поторопился спрятать свою радость под хмурым видом. Да и суровых, непроницаемых глаз требовала сама песня: якуты исполняли ее насупленным, бубнящим голосом, с большими горестными паузами. Правда, хорошо ее брали и русские в два, три голоса: пели лихо, весело, подсвистывая, притопывая и щелкая пальцами. Им, русским, все нипочем, а якутам хотелось плакать, и Кадыр больше понимал якутов.
Кадыр неожиданно резко вырвал из гармошки писклявый звук и зачастил скудную мелодию на одной тональности, украшая ее еще более частым перебором двух басовых ладов и вовсе не заботясь о созвучии. Держа гармошку навесу и наклоняя ее то в одну, то в другую сторону, он сыграл как бы вступление и вдруг, взяв медленный темп, запел своим слабым прерывистым и вместе с тем чистым голосом. Слова песни Кадыр не пел, а выговаривал жестко, с твердым родным акцентом, и песня то слабела, как бы совсем утихая, то поднималась, дрожала, и в этом строгом ритме угадывалась неодолимость вековечной судьбы с маленькими радостями и печалями.
Водочка бойкой недаром именовалась,
и недаром в песнях поется,
что в высшем месте она зачалась,
в природном месте родилась.
Казаки, мучную воду сваривши,
через трубы прогнавши, водку сделали.
С законом согласуясь, лекари, испробовав,
признали, что будет она — сердита и весела.
Высоким господам показавши и повелением укрепивши,
вызвали казачью команду в дремучий лес.
В узко сдержанных штанах, туго обтянутых сюртуках,
высоких фуражках да сафьяновых сапогах,
казаки дубовую лесину, одобряя и вокруг обходя,
звонко ударяя, срубили.
Лесину расколовши, пластью стесавши,
как песню, сложивши, как мех, скобливши,
собрали в железные пояски;
сквозь продырявивши, водку влили, шпон вбили.
Серебряной печатью с орлом запечатали,
а бочку — сороковою наименовали.
Широким разливом по черно-серебристым
перекатистым волнам, со скорым ветром, следуя
по восьми рукавам матушки-Лены,
укоренивши в судне, на дне из множества листвен,
с крепкими лиственничными сторонами, с тройным потолком,
с тяжелым якорем и парусным крылом повезли.
Имея при этом смотрителя с чином господина, писаря и
дюжего гребщика, молодцеватого кормщика, часового из солдат
и караульного из казаков.
И так-то на песок Якутского улуса своротили.
Ночью не спавши, днем не сидевши, к берегу пристали.
Здешние господа на ура встретили.
Торговые люди собрались на берег,
пушечной пальбой честь гостям сделали.
Купцы по указу жидкий товар, пробуя, приняли.
В судебные места письменно знать дали.
По вместимости в подвал спустили.
По кабакам роздали.
Ведрами измерили, по бутылкам розлили,
полштофы наполнили, шкалики налили.
Рюмками и бокалом угощать стали.
За почетными водка погналась, богатых полюбила,
с умными разговор нашла. Дурака за горло взяла.
Бедного опешила, нищаго вконец доконала.
Вскорости имеющих высокие дома понизила,
мягкое спанье переменила, заменив:
кровать — печью, одеяло — рогожей, подушку — кирпичом.
Шелковые кушаки — лыком да мочалом.
Ах, чудо невыдуманное! С быстротою сытого коня,
с шумом пустилось в путь и путешествует знаменито!
Всех борзой рысью обошла и усилилась,
хитрей хитрого сделалась.
Чтобы сблизиться в беседе, к закуске приладилась.
Чтобы неторопливо было, наливкой стала.
Чтобы отемяшить, спиртом стала.
Чтобы веселить, фруктовой стала.
Чтобы шаманить, похмелье придумала,
чтобы заставить бесноваться, сна лишила.
А сама в разные шубы и платья вырядилась.
Которая в бочонке — почетнее,
во флягах — слаще, в кожаной посуде — свежее,
в штофах и бутылках — видней и завидней.
В стаканах — уважительно, в рюмках — почетно.
Ох да ну, ребята, заманит и обойдет всякого.
Унизить в положения вздумала — с картами соединилась.
Рассердилася — свару затеяла, раздор учинила.
Ссорившихся и озлобленных друг на друга пустила.
Друзей поссорила, мужа с женой разлучила.
Эко враждебная! Знай поспешает, не торопится,
уменьшается — увеличиваясь, теряясь — поднимается.
Последние стихи Кадыр уж не пел и не читал даже, а цедил сквозь зубы, и на большом оскаленном лице его темно блестели разгоряченные глаза. Дымная, душная изба, густо набитая людьми, молчала. Аркадий поглядел на разношерстный сход гостей, виноватых, бессловесных и потерянных перед песней, которую они поняли и не поняли, и сказал громко, чтоб слышали все:
— Как бы я мог подумать, Кадыр, что ты вот молодой, красивый, а на самом деле такой мудрый сказитель. Ей-богу вот. Я, Кадыр, в жизни такого не слыхивал.
— Ладно, ладно, Оглобелька. Я ведь нарочно для тебя тянул по-русски. Им спою потом, отдельно. — Кадыр подкладкой пиджака вытер вспотевший лоб и заулыбался, весь праздничный, блестя золотыми клыками. Татары тоже стали улыбаться, но никто из них не разговаривал, боясь сказать не то слово или опередить более достойного. Худобородый дед, захватив глаза рукою, раскачивался взад и вперед, будто молился. Молодой татарин, с заячьей губой и в шубе шерстью навыворот, остолбенело и бессмысленно глядел на Камилку, которая стояла у печки и плакала. Ласковое лицо ее, измазанное сажей, казалось совсем детским и смирным от слез. Осман, держа руки под мышками, изрядно осоловевший от бузы, все еще что-то уяснял, потом закипел с пьяной слюной на губах:
— Водка — шайтан, собака. Подушька кырпчом, кушак лыком переменил. Ых, пара бир. Высокам ниска делал. Кунчал башка.
Осман стал наливать в кружки бузу, и люди, глядя на его руки, стали переговариваться, вздыхать и чесаться. Ребятишки на нарах повеселели, взялись петь, подражая голосу Кадыра.
— Друк Оглобелка, кажи высем, — обратился к Аркадию Осман — глаза у него растаяли в слезе, — кажи, кидай, татырва, проклят водка, то выся пропади, пара бир. Ирбит, Перма, Москва — умнай свет куругом. Помогай надо татарам. Земля многа, неба многа, татара слепой, знай своя буза.
Осман закрыл глаза, горестно покрутил головой, и выпил бузу. Кадыр пить отказался, вздохнул:
— Белый свет велик, да мы-то дураками родились. Якуты, Осман, так говорят: ежели сапоги жмут, что пользы в поднебесном просторе.
На эти слова Осман ответил Кадыру что-то по-татарски, и они заговорили на родном языке. К столу потянулись гости и стали опрокидывать кружки.
Аркадий в сутолоке незаметно вышел на улицу. У него закружилась голова от чистого, свежего воздуха, полного пригретым снегом и острым весенним предчувствием.
Сильное и греющее солнце стояло высоко. Небо было подернуто тонкой, редеющей кисеей, а над лесами, по ту сторону Туры, вскипали первые, нынче совсем еще рыхлые и на вид подмокшие, кучевые облака. Основание у них было мутно и размыто, зато барашковые вершины, пронизанные светом и глубокими тенями, со стороны солнца торжественно белели, как далекие заснеженные горы. В истоптанном и унавоженном загоне на припеке грелись мохнатые кони. А тот жеребенок, что принюхивался к Аркадиевым лошадям, только что вывалялся в чистом снегу у сарая, и от его мокрых боков поднимался теплый пар. В старой березе за сараем притаились снегири, кратко пересвистываясь и поскрипывая, — в холодных просквоженных ветвях на фоне светлого неба были ясно видны их красные переднички и черные шалки. Вокруг початого стожка, на рассыпанном сене, суетились доверчивые чечетки, похожие на полевых воробьев, разве что повертлявей да поубористей в оперении.