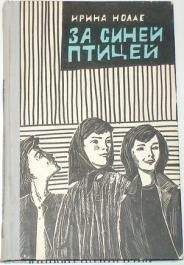Вот уже минуло Анке девятнадцать, а она все оставалась такой же угловатой, с недоразвитой грудью и плоскими бедрами. Ни один парень не взглянул на нее как на девушку, никому в голову не приходило, даже по пьянке, обнять ее плечи. Да и Анка, казалось, не замечала, что рядом с нею находятся красивые, молодые ребята, с циничной откровенностью прижимавшие к себе таких же молодых и здоровых девчонок.
Однажды Анка надолго исчезла. Сначала братва решила: погорела. Но беспрестанно выходящие из тюрем, лагерей и колоний воры и воровочки не сообщали о том, что Черная сидит там-то и там-то. О ней вспоминали только тогда, когда собирались на квартирах. Чего-то не хватало: не то ее острого, насмешливого язычка, не то красивых и непонятных стихов о страусовых перьях и царевне, умирающей в старинной башне, где скребутся мыши, стучат часы и у изголовья постели шепчут старушки. Она появилась неожиданно, ровно через год. Еще более некрасивая, похудевшая и угрюмая. На все расспросы молчала или отвечала такое, что от нее отходили, отплевываясь. Но все же узнали, где была Анка Черная этот год. Оказывается, появился где-то в Калинине некто Алик. Вор не вор, фраер не фраер. Нигде не работал, но и о «делах» его никто ничего не слышал. Говорили, что с ним Анка прожила около трех месяцев, что и после того, как он спутался с другой девчонкой, Анка кормила его и одевала и бегала за ним с потерянными и пустыми от горя глазами. И что осталась она от него беременной. А потом, когда однажды Анка «застала» его с очередной возлюбленной, устроила страшный скандал. Он до полусмерти избил ее, и увезли Анку на скорой помощи, подобрав где-то в сквере с первыми родовыми схватками. Ребенок родился мертвый.
Узнав все эти сведения, и основательно проверив их, воры постановили: завалить этого хлюпика. И не только потому, что оскорбил этот человек одного из членов их «клана», а потому, что больше всего на свете воры ненавидят и презирают проституток и спекулянтов. Алика они сразу определили коротким и выразительным словом «кот» и решили: уберем, чтоб другим было неповадно. Но в тот самый день, когда выслеженный и, казалось, уже обреченный Алик должен был держать ответ, на квартиру, где он обитал у очередной своей возлюбленной, прибежал пацан с запиской. Через пятнадцать минут Алик был уже на вокзале. Воры догадывались, кто предупредил его, но претензий к Анке не предъявляли: черт с ней, если влюблена как кошка. Да не очень-то было интересно ворам пускать в ход финку — как-никак, а «мокрое дело»…
А потом началась война, и как ни ловчились многие, а пришлось им сменить щегольские сапожки на грубые кирзовые солдатские сапоги. Многие погибли на фронте безвестными защитниками отечества, встретив свою смерть новым рождением, некоторые заслужили награды, смыв позорное свое прошлое. Но были и такие, что бежали с эшелонов, с передовой, во время переформировки воинских частей. Они приходили на старые квартиры, искали старых друзей. У некоторых было и оружие. Бандитов ловили и судили по законам военного времени. И теперь им уже не приходилось отделываться «детскими сроками» в три года. И к длинному перечню их преступлений прибавлялось еще одно, самое страшное — преступление против родины и народа. Семь граммов свинца было слишком большим милосердием для них.
Знала Черная и таких, которые старались срок схватить и в тюрьму сесть — лишь бы не на фронт.
Но Анке Черной было не до дезертиров и предателей, как не было ей дела и до героев.
Девочка… Маленькая, с посиневшим лицом. Анка успела бросить на нее взгляд — первый и последний в жизни взгляд, отуманенный слезами и болью. Девочка… Она мечтала о ней. Девочка будет красавицей… Недаром так долго искала и наконец нашла Анка отца своему будущему ребенку, своей девочке. Она будет красавица и умница. Она никогда не узнает, что мать ее была воровкой. Анка давно все рассчитала. И не только были рассчитаны до последней копейки скопленные деньги — была рассчитана сама жизнь: по дням, месяцам и годам. Девочка будет расти, не зная, кем была ее мать. Анка уедет подальше от Москвы и десять лет проживет в глуши. О, она умеет работать! У нее ловкие руки и железное здоровье. И девочка будет расти — чистая, красивая, ласковая. А потом… Где-то в огромном зале, залитом огнями, сверкающем позолотой и алым бархатом, в первых рядах будет сидеть Анна Воропаева и смотреть на сцену, еще закрытую тяжелым занавесом. А когда занавес медленно раздвинется, на эстраду выйдет стройная, высокая, синеглазая — она! И зал притихнет, и погаснут огни, и все перестанут дышать.
…И очи синие, бездонные
Цветут на дальнем берегу.,
Анка чуть слышно простонала сквозь стиснутые зубы. Нет… Никого и — ничего. Нет девочки, нет любви, нет счастья. Все врут книги! Нет ничего, что могло бы заставить глаза Анки затеплиться тихим светом, нет человека, которому можно было рассказать о своей тоске, о своем одиночестве. Теперь уже Анка не читает книг — она ненавидит их. Там всегда все хорошо кончается. А разве в жизни бывает так? А раз не бывает, — значит, все равно! Чужие комнаты, чужая постель, чужой уют — за деньги, приобретенные воровским промыслом. Камеры, кабинеты следователей, этапы, лагеря… Ну, так черт с ним со всем — и с жизнью, которую знает Анка, и с жизнью, которой обманывали ее книги!
«Воровским кострам суждено погаснуть…» Костры… Какие там костры! Где они горели, эти костры?
Анка сбросила одеяло, села, поджав под себя ноги, и крепко, до боли стиснула руки в кулаки. Идиоты! Попробуйте раскусите орешек, что преподнес вам этот Никола Дикарь! Кричите там, пишите дурацкие письма… Любка Беленькая… Недавно состоялся над ней показательный лагерный суд. Анке рассказывали, будто Любка, когда ей объявили приговор, рванула на себе блузку и крикнула: «Воровки! Отомстите за меня! Пусть они помнят громовую воровочку Любку Беленькую!» Но в клубе воровок было немного. Судили Любку на том подразделении, где она сделала наибольшее количество отказов от работы. А это был тихий лагпункт, где плели рогожи, шили белье для нужд лагеря, ремонтировали изношенное обмундирование. И когда Любка выкрикнула традиционное воззвание о мести, из зала послышался добродушный смешок: «Тю, скаженная!» — и все засмеялись, даже члены суда.
Любку увезли «вне лагеря», то есть отправили в другие, более режимные лагеря. Она успела передать кому-то «свое последнее слово», и оно пошло гулять по женским лагпунктам, причем к «слову» стали прибавлять что-нибудь свое, чего и быть не могло. Так, например, сцена в суде приобрела другой характер: Любку приговорили к высшей мере — к расстрелу. Зрительницы будто бы кричали: «Мы за тебя отомстим!» Затем здесь же, на клубной сцене, Любке предложили подписать заявление о помиловании, но она, конечно, отказалась. В общем, получилось примерно так, как не раз слышала Анка на «хазах».
Она хорошо знала цену этим легендам — о высшей мере, об отказе просить помилования, о «камере смертников» и прочих «жутких» историях, которыми так любят тешить себя и других «авторитетные» воры.
Анка хорошо знала, что никакой «высшей меры» этой юродствующей хулиганке дать не могли. Никакого «помилования» подписывать не предлагали, и вообще ничего там не было особенного, на этом показательном суде. Добавили Любке года три и отвезли «громовую воровочку» в центральный изолятор лагеря, где она и дождалась отправки на дальний этап. На этом и кончилась ее история в Энских лагерях.
«Идиоты! — еще раз прошептала Анка. — Не вам зажигать костры, не вам и сгореть вместе с ними».
Анка повернула голову и посмотрела в угол, где, охватив руками колени, сидела перед открытой печкой Галя Чайка.
…Синий дрожащий язычок бесшумно вспыхнул, погас, еще вспыхнул, уже слабее, и замер. А рядом, в сверкающих россыпях углей, мигали и приплясывали такие же синие, такие же призрачные огоньки. С легким шорохом обрушилась, брызнув искрами, невысокая причудливая башенка, и на ее месте сразу вспыхнули и заплясали десятки маленьких веселых огоньков. Вот их становится все меньше, и уже темно-фиолетовой тенью подернулись золотые угли, и по ним забегали искорки.
Все это уже было когда-то… Вот так же догорали в открытой печке золотые угли и так же вспыхивали и умирали синие огоньки пламени. А перед открытой дверцей времянки на ящике сидела девушка. Тело ее дрожало мелкой дрожью, и она никак не могла сдержать эту противную дрожь. А рядом сидел парень — худощавый, светловолосый, на руках его были синей тушью нарисованы какие-то фигуры и написаны какие-то слова.
Парень задумчиво смотрел на догорающие угли и тихонько насвистывал: «Начинаются дни золотые воровской непродажной любви…» Час назад он на руках вынес подсобницу Гальку Светлову из комнатушки, где мастер стройучастка организовал свой «кабинет».