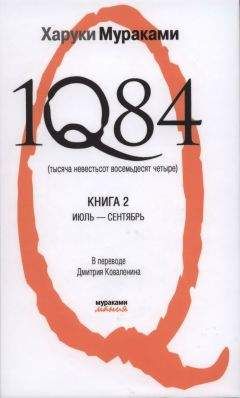Сход ручьевских мужиков окружили и затянули [406] в кольцо верховые солдаты, невдалеке от возвышенности, на которой расположился наряженный мордвином человек. Верховыми командовал офицер в невиданной форме.
— Кто будет говорить от схода? — рявкнул усатый солдат, подбоченясь и шевеля кривой саблей.
— Выходи вперед, живо!
Из толпы мужиков, тесно сбившейся в кучу, вылез неуверенно низкорослый бородач с зарытыми в бровях глазками. Солдат надвинулся на него.
— Сопро-тив-ляться-а-а?!
Бородач переступил с ноги на ногу и замигал глазками.
— Сопро-тив-ляться-а-а?!
Солдат приподнял саблю, цепочка портупеи угрожающе звякнула по железным ножнам.
— С боль-ше-ви-ка-ами?!
Бородач качнулся к солдату и тоненьким голоском обрадованно подхватил:
— Завсегда, товарищ, с большевиками, беспременно, это у нас...
— А-а, беспременно?
— Беспременно, товарищ, как один человек — вся деревня, стало, с большевиками...
Тогда солдат, подняв саблю и потрясая ею над головою бородача, завопил:
— Выдавай зачинщика! Кто зачинщик? Ты зачинщик? Говори — ты?
— Товарищ дорогой, дай слово сказать, как у нас это самое дело...
— А-а, то-ва-рищ?!
С проселка, вертко выбрасывая вперед туловище на быстрых прочных руках, катился к сходу Лепендин. Он пронырнул между ног ло-[407]шадей, обступивших мужиков, и подскочил к бородачу.
Усатый солдат, побагровев и вытянув шею, наступал на толпу.
— Скрывать зачинщика? Сопротивляться?
Вдруг мужики заволновались, закашляли, несколько рук мотнулось к солдату, кое-кто снял и опять нахлобучил картуз.
— Что мнетесь? Онемели? — крикнул солдат.
Тогда сразу из десятка глоток вывалилось на солдата неуклюжее слово:
— Лепендин...
— Лепендин все...
— Федор, он объяснит, стало, как...
— Лепендин...
Солдат притих и спросил:
— Который?
Головы и руки показали на Лепендина. Его вытаращенные глаза испуганно перескочили с солдата на толпу. Мужики не глядели на него, и лица их почудились ему одинаковыми, как струганые доски.
У солдата отвалилась и повисла нижняя челюсть, он остолбенело смотрел на торчавший из земли человеческий обрубок.
На щеках Лепендина сквозь загар выступили зеленовато-желтые пятна, лицо порябело, и голова еще больше, чем всегда, стала похожей на дыню.
— Эх! — крякнул он, еще раз растерянно оглянув мужиков.
Потом тряхнул головой и обернулся к солдату:
— От, товарищ, какое дело. Как нам, изволите сами видеть...
Но солдат от первого его слова пришел в себя.
Он ткнул Лепендина ногою в грудь, и тот опрокинулся на землю, как круглодонная бадейка. [408]
— Погоди, — произнес молчавший до того офицер в невиданной форме. Он повернул лошадь и поскакал к возвышенности, где на упавшей яблоне сидел человек, наряженный мордвином. Человек встал ему навстречу, подошел к лошади, постоял около стремени и вернулся к поваленному дереву. Офицер прискакал к сходу.
— Веди! — сказал он усатому солдату.
Лепендин все еще лежал опрокинутой бадейкой. Солдат двинулся к нему и ударил его саблей. Он перевалился со спины на живот, согнул в локтях руки, упрочил в земле свои уключинки, приподнялся и сел.
— Ползи, мразь! — крикнул солдат.
Лепендин наклонился и переставил руки. Но прежде чем пересесть на шаг вперед, он еще раз обернулся к мужикам, и опять лица их показались ему стругаными досками.
— Пошел!
На возвышенности Лепендин сидел против светлоглазого выбритого человека, наряженного мордвином. Он видел, как непокойно шевелился чуть приоткрытый рот человека, слышал его гладкий голос, но ни его слов, ни слов других каких-то людей в смурых чапанах, которые кричали на него и требовали ответов, он не разбирал. Он только улыбался виновато и переминал по земле уключинками, стараясь поудобней сесть.
Солдат в серой выгоревшей куртке и тот, усатый, который подгонял Лепендина, пока он взбирался на пригорок, быстро ушли в сторону. На Лепендина все еще кричали, и гомон говоров был по-прежнему неразборчив и смутен, и Лепендин продолжал готовно и виновато улыбаться, когда солдаты возвратились. Люди в чапанах дали им дорогу, и Лепендин рассмотрел позади людей [409] на одинокой корявой яблоне свисавшую с сука веревку. Наряженный мордвином человек стремительно поднялся с поваленного дерева, поднял руку вровень с своим плечом, вытянутым пальцем показал на яблоню и выкрикнул цепкое слово.
Тогда Лепендин качнулся и завопил:
— Братушки-и! Ведь это — не-емцы! Бра-туш-ки!
Он упал на бок и покатился под гору, к мужикам.
Но его задержали ногами и, схватив за руки, поволокли к яблоне.
Тогда он начал бить своими уключинками по рукам и коленям людей, которые его тащили. Уключины вышибли у него ножнами. Он стал кусаться и — в отчаянье— визжать. Но люди волокли его без остановок, с силой отдирая от крыжовника, когда железные шипы впивались в его одежду и в его тело.
— Бра-туш-ки-и!
Лукошко, которое служило Лепендину прочным, удобным башмаком, отодралось от его коротких культей и тащилось на ремне, следом за туловищем, оставляя на кустах тряпичную требуху.
— Братуш-ки-и!
Лепендина приволокли к яблоне, веревку передвинули поближе к стволу, чтобы сук не отломился от тяжести, и с минуту не видно было, что делали люди, нагнувшиеся под суком.
— Бра-туш...
Потом над их головами заколыхался несуразный обрубок, и длинные руки, приткнутые к нему, дернувшись раз-другой в стороны, вдруг выпрямились вдоль туловища и сжались в кулаки, как будто [410] Лепендин в последний раз захотел упереться руками в землю.
Человек, наряженный мордвином, медленно погрозил пальцем сначала на повешенного, потом на сход, неслышно стоявший под пригорком в кольце конного отряда.
Тогда в толпе мужиков чуть слышно кто-то вздохнул:
— Пронеси, господи... А Федор все одно калечный...
— Эх, паря! Какая у нас сила ягоды! Вишняка у нас — прямо туча! Сливы там, торона — свиньи не жрут! А на грядках, на грядках, паря, красно все от земляниги, а землянига — во, в кулак! Вихтория там всякая, скороспелка — и-и-и-и! А яблок этих самых — всю зиму лопаем, — и мочим, и солим, и сушим, никак не справиться, до чего много! Базар у нас...
Да, да, Лепендин. Всего этого в Старых Ручьях до сих пор вволю...
Самое страшное — остановиться на каком-нибудь лице, увидеть чужие глаза. Самое страшное — вдруг почувствовать, что толпа состоит из множества непохожих друг на друга людей и что каждый человек — непримиримый враг чужой мысли и ненавистник чужого слова. Тогда — позор.
Смотреть надо поверх голов, слушать — только свои слова и не любоваться ими, а кидать их с ожесточением, чтоб они не мешали мысли. Тогда — победа.
Вот как сейчас, наедине, в закрытой комнате, — победа! Андрей отыскал все слова, какие нужно, чтобы измученных солдат побудить снова [411] взяться за ружье. Андрей построил речь. Он изучил ее. Он взвесил силу каждой паузы. Он знает, где и как поднимет руку, где остановится и где даст волю неудержным словам. Андрей готов.
Но в лагерном тесовом бараке — не толпа, а множество людей. У каждого свои глаза, и над глазами хмуро нависают полинялые, простреленные бескозырки. Глаза подозрительны, глаза усталы и пусты. Что притаилось за этой пустотой? Холодный мрак блиндажей и сладковатый угар госпиталей, вывороченные из разрыхленного мяса белые кости, капающая с колючек проволоки кровь и затхлая, стоячая сырость окопов. Чем изумишь такие глаза? Они видели все, они знают все, им ничего не надо, им пусто, им бесконечно пусто в этом мире. Мир блиндажей, окопов и госпиталей не придумал еще слов, которые заполнили бы пустоту таких глаз, и ничто в этом мире не снимет неподвижности с обветренных кровавым ветром лиц.
Вот они скучились в низком тесовом бараке — затверделые, отточенные на станке войны лица. Сотни разнокалиберных трубок воткнуты в их зажатые рты, и желтоватые, сизые, синие струйки, отрываясь от лиц, утолщают дымовую завесу над бескозырками. Завеса сбита из запаха тлеющего вишневого листа, и кажется, что где-то поблизости палят сады.
Пленные попыхивают своими трубками и лениво расступаются перед Андреем. Он торопится дойти до скамьи, с которой Курт объявил бараку, что будет говорить русский.
Будет говорить русский? Не все ли равно? Пусть. Наверное, будет болтать о революции и о братстве народов. Черта с два, братство! Не могут вывести тифозных вшей, и вот уже полгода, как каждый день обещают отправить на родину. Впро-[412]чем, пусть. Можно послушать. Иногда русские несут такой вздор, что смешно. А смеяться доводится редко, это надо ценить. Пусть.
Слова эти на уме у кривого солдата, стоящего как раз против Андрея. Он бронзоволиц, и тяжелое веко его здорового глаза то медленно опускается, то поспешно взлетает наверх, точно он хочет подмигнуть и всякий раз раздумывает.