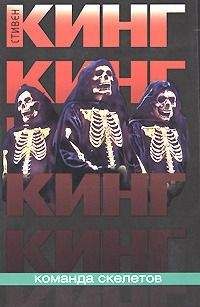5
Как и все девочки, разумеется, и она думала о мальчиках, о любви, о замужестве… Но эти ее мысли исчезали так же неожиданно, как рождались, — они были нерешительными, смутными и как бы бесплотными; не было у них ни силы, ни цепкости, чтобы прочно, основательно поселиться в сознании и в душе совсем еще юной девочки; впрочем, и сама эта девочка, собственно, не старалась их привадить и удержать, так как ничего не имела против того, чтобы жить так, как жила, не видела ничего особенно интересного, захватывающего, сулящего что-либо новое и необычное в этих мимолетных и невесомых, как воздух, мыслях, способных порождать лишь такие же мимолетные, такие же воздушные чувства. Но думы эти все же делали свое дело. Хотела она того или не хотела, замечала или не замечала, но все вокруг видоизменялось, вернее — раскрывалось, показывало истинное свое лицо, для правильного восприятия которого уже недостаточно было одного лишь зрения, требовалось что-то еще для постижения, осмысления всего окружающего, для удовлетворения уже не детской любознательности, а другого, душевного любопытства. Впрочем, никто не принуждал ее постигать, разгадывать, осмысливать; все зависело от ее желания и знания или незнания, а более всего — от ее смелости, так как желание само по себе ничего не значило; а для того чтобы приобрести знание, требовалась смелость, нужно было так же бесстрашно погрузиться в пучину захватывающих тайн, как она погружалась в морские волны; кувыркаться в воде, кружиться волчком или плавать без рук — было лишь детской игрой, не больше; а она уже с какой-то грустной гордостью, уже с утраченной, но еще желанной радостью и охотой присаживалась на корточки около играющего в парке ребенка, поправляла венок из сухих листьев у него на голове, прилаживала получше такой же, плетенный из сухих листьев, кушак у него на талии и на прощанье не забывала потрепать его по щеке, как настоящая, взрослая женщина. А в тот день, когда она призналась самой себе, что любит Гелу, она поняла также, что любила его и раньше, до того, как решилась… Гораздо раньше, чем его мать явилась к ним в дом и дала ей обиняками понять, что Гела принадлежит ей, матери, а не посторонней девчонке, что это она, мать Гелы, а не кто-либо другой, ждет его возвращения; раньше, чем Гела в первый раз бежал из тюрьмы, и раньше, чем его арестовали в первый раз; еще раньше, до того времени, когда он внезапно появился перед нею в своих синих бархатных штанишках и рубашке в полоску; и даже более того — она любила Гелу до того, как он приехал в Батуми, и, если угодно, раньше, чем он вообще родился на свет. Но до того как она призналась себе в этом, прежде чем до этого дошло дело, Гела ничем в ее глазах не отличался от остальных мальчишек, ничем не выделялся среди них; во всяком случае, она уверяла себя в этом, так как смутно предчувствовала, что вся ее будущая жизнь будет связана с Гелой, как лист с деревом, и со свойственным ей по натуре притворным равнодушием старалась уклониться от тех испытаний, от тех сложных и тяжких обязанностей, которые неминуемо, сами собой, должны были возникнуть и обрушиться на нее, как только она излишне заинтересовалась бы Гелой, поверила бы в его исключительность, проявила бы к нему больше внимания, чем может проявить десятилетняя девочка к десятилетнему мальчику, не вызывая ни в ком ни удивления, ни тревоги. Когда Гела в синих бархатных штанишках и рубашке в полоску впервые появился у Нато на именинах, да к тому же еще незваным (лишь на другой день отец сказал ей, что сам пригласил его, да только забыл ее предупредить), она немножко даже рассердилась — застыдилась других девочек, их многозначительных взглядов; подчеркнуто вздернув брови и недоуменно пожимая плечами, она постаралась показать, что сама не менее других удивлена появлением неожиданного гостя, но когда девочки, забыв свою «врожденную вражду» к мальчишкам, налетели со всех сторон на растерянного и немного испуганного Гелу и засыпали его вопросами («Правда ли, что Тбилиси больше Батуми?», «В самом деле в Тбилиси ходит трамвай?»), ей это тоже показалось неприятным, так как Гела, в конце концов, был в гостях у нее, а не у них, и главной сегодня здесь была она, а не другие; поэтому она первая захлопала в ладоши, когда Гела неожиданно для всех — наверно, чтобы вырваться из их когтей, а не из желания покрасоваться, как подумали иные, — объявил, что готов спрыгнуть с крыши, если его об этом попросят; как будто Гела только для нее одной собирался спрыгнуть с крыши — или прежде всего для нее, как для хозяйки и именинницы, а потом уже для остальных; поэтому, наверно, она одна испуганно вскрикнула, когда из-под ноги у Гелы выскользнула черепица, и она одна почему-то заткнула уши (а не закрыла глаза) и стояла так, покуда сорвавшаяся черепица не упала бесшумно и благополучно на землю; и, разумеется, по той же причине она первая, до того как другие успели прийти в себя, подбежала и стала в ямки, оставленные ногами Гелы там, где он приземлился, как, бывало, в детстве влезала в высокие и просторные ботики своей матери. Но это еще не было любовью; а между тем ее ровесницы только о любви и рассуждали — в особенности в гимназической уборной, — словно разговоры на эту тему были такой же постыдной потребностью, как та всеми скрываемая нужда, которая приводила их сюда. «Девочки, послушайте, что я вам расскажу!» — и, захлебываясь, то и дело прыская и давясь от смеха, они взволнованно пересказывали подслушанные дома у взрослых сплетни, разоблачали супружеские тайны или заучивали наизусть слова новых песенок про любовь: «Отпусти меня, мамочка, по базару пройдусь, там куплю себе яду, нынче в ночь отравлюсь»; или: «Девчонку парень звал гулять в лес, птичьи гнезда разорять…» «Вот так он пел, вот — откинув голову, закрыв глаза. Девчоонку паарень зваал гулять… И пальцы такие длинные. Точно не на гитаре играет, а сердце мне щекочет». — «А дальше, дальше как? Ну говори же, не тяни!» — волнуются, пищат остальные. «Ах нееет, в лесоок я не пойдууу, с тобооой легкооо попааасть в бедуууу… Подруга моей мамы его любовница. Все об этом знают, кроме его жены. А его жена думает…» — «А какой беды она боится? С ним, в лесу? А, девочки?» — спрашивала какая-нибудь из подружек, и тут же все остальные в один голос напускались на нее: «Не притворяйся, хитрюга, бабушку свою обманывай!» И притом одним ухом настороженно прислушивались, не идет ли по коридору уборщица: как бы не вошла внезапно, не услышала ненароком их разговоры. Чертова старуха! Ведьма с усами. Бредет и тащит за собой мокрую тряпку на палке. Тряпка оставляла влажный след на изразцовом полу. Девочки тотчас же принимались оправлять на себе платье, а старуха, прислонив палку с надетой на нее тряпкой к стене между горкой опилок и ведром, оглядывала прихорашивающихся гимназисток и молча уходила из уборной. А время шло, и все изменялось, тускнело, бледнело… Но порой оборачивалось чем-то новым и приобретало новую значимость то, что уже отошло в прошлое, что, казалось, не имело никакого отношения к сегодняшнему дню. И получалось, что все сегодняшнее, напротив, было необходимо и имело значение лишь постольку, поскольку возвращало к былому, к минувшему взор, охваченный жаждой постижения, осмысления, раскрытия души. Сегодняшнее вырастало из вчерашнего, как трава из земли; и душа, отвернувшись от зримого, невольно вглядывались в исчезнувшее, незримое, породившее и обусловившее все то, что сегодня, в эту минуту, волновало или умиротворяло, пугало или успокаивало ее. «Что ты подумал, когда в первый раз увидел меня?» — допрашивала она Гелу — не потому, что сама сегодня иначе, чем в первый раз, думала о нем, а потому, что ничего еще не смыслила в любви; а любовь все нарастала с каждым днем, все явственнее раскрывался ее беспредельный простор, и Нато, как плохой пловец, то и дело оглядывалась на исчезавший в отдалении, надежный, прочный и, главное, знакомый берег, откуда бездумно и без оглядки бросилась в таинственное, бездонное и бурное море страсти. Но она была пока еще ребенком и имела право оглядываться; пока еще робость, а не дерзость, инстинкт, а не сознательная решимость уводили ее все дальше в море. «Что я подумал? Почем я знаю, что я подумал!» — отвечал Гела, и Нато хоть и не обижалась, но весьма изумлялась забывчивости своего друга и, с виду спокойно, а на самом деле волнуясь и спеша, настойчиво искала в уме самые колкие, самые язвительные, самые обидные слова, чтобы наказать его за эту забывчивость, за эту невнимательность. Но все это шло еще от детства, это было соперничеством двух дикарей, которые по неразумию и по простодушию считают делом чести и достоинства доставать жгучий, горький, дурманный мед из дупла, полного яростных и безжалостных пчел, да притом еще без сетки на лице и голыми руками. Любовь пока еще рождала в ней лишь желание подчинить, подавить Гелу, чтобы счесть впоследствии заслуженной, справедливой и естественной любую муку, любую боль, причиненную любовью, — впоследствии, когда любовь, вместо того чтобы требовать от нее проникновения в чужую душу, сама выглянула бы из ее души пустым, тоскливым, сковывающим взглядом, как из темницы — узник, из бассейна — дельфин, из чаши — яд. Короче говоря, когда любовь превратилась бы из блестящей и хрупкой игрушки в такое же грубое, несокрушимое орудие, каким ломают камни или копают землю.