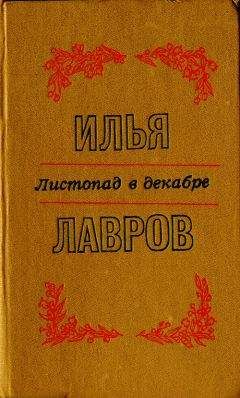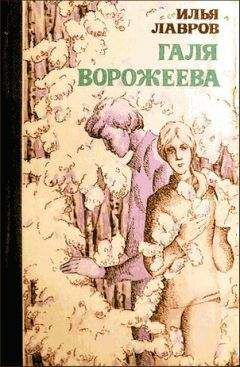— Чего ты киснешь там? — крикнул Чуланов Кате. — Поджала лапы, как таракан на снегу. Так далеко не уедешь. Садись!
— Да ладно уж… Пусть он, а я… — залепетала Катя.
— Лезь! — прикрикнул Чуланов.
И Катя забралась в кабину. Он подавлял грубостью, и Катя посматривала на него со страхом.
— Куда тебе?
— В Шебалино.
— Чего там не видела?
— К маме я… Туда хочу перевестись…
Чуланов покосился на ее маленькую грудь, на полудетское лицо. Оно было удивительно мальчишеским. Таким его делали и царапинка на скуле, и шершавые, обветренные губы, и реденькие, бесформенные, выгоревшие брови, и короткие, как шапка, волосы, и блузка, похожая на рубашку.
— Васькой бы тебя звать, а не Катериной, — усмехнулся Чуланов.
Стеснительная Катя жарко покраснела, испарина осыпала росой ее вздернутый нос. Она не повернула головы, смотрела на тракт. А дорога повторяла все прихотливые извилины гремящей Катуни. Свирепая и прекрасная река летела вниз, а тракт — вверх, навстречу ей. Вдоль него стояли серые, замшевые от пыли деревья. То и дело под колеса бросались мосты, мостики, мосточки. Возле них на столбах мелькали планки с названиями речек. Все это с детства было знакомо Кате.
Весь Алтай брызгал, гремел и клокотал. Из каждого лога между горами, из ущелий, из крутых дебрей над трактом вырывалась бешеная речонка или просто упругий, сверкающий ручей. Они летели с высоты, прыгали по террасам, по скалам, бурлили в камнях, взбивали комья пены, студеные, немыслимо прозрачные и вкусные. Когда из них пьешь — жмуришься от наслаждения. Катя любила все эти ручьи и речки, любила алтайскую воду. Но сейчас она не могла почувствовать родные места как прежде: ее пугал этот парень.
Чуланов снова покосился на нее, сладкий озноб передернул его лопатки.
— Эх! — выдохнул он и положил руку на ее грудь. Она шарахнулась к дверце, вывернулась.
— Чего ты… Останови, я сойду, — прошептала Катя, сжимая колени и рукой прикрывая грудь.
Чуланов, чувствуя непонятную веселость и легкость, по-доброму засмеялся:
— Никогда меня такие зеленые не любили! Ты, поди, и целоваться-то не умеешь? А? Васька?
Катя молчала, прижавшись к дверце.
У шоферов есть на тракте излюбленные места, где они обязательно останавливаются напиться, освежить лицо. Одно из таких мест называется Золотым ключом.
Чуланов остановил машину. Катя выскочила, огляделась: тракт был пустынным. Из темноты хвойной чащобы на горной крутизне вырывался прозрачный поток. Труба на подпорках ловила часть его приваренным раструбом и выбрасывала толстую струю сверкающей дугой. Струя не то воды, не то жидкого серебра, не то сгущенного сияния падала к ногам путников.
Чуланов подставил зеленую эмалированную кружку. Струя чуть не вышибла ее из руки. Ударяясь о дно, она взлетала фонтаном, окатывала грудь, лицо, руки. Чтобы набрать воды, Чуланов быстро отвел кружку вниз, ослабляя удар.
Возле потока на планке, прибитой к столбику, было написано: «В добрый путь!» Рядом стояла голубая беседка со скамейкой: отдохни, путник! Кате всегда становилось радостно от этого внимания и привета неведомых людей. Она думала о том, что человеку нужно совсем немного: глоток сияющей воды да доброе пожелание в дорогу. И вот уже тебе славно на земле.
Но сейчас ей было не до этих мыслей. Она со страхом следила за Чулановым. А он быстро зыркнул глазами вдоль тракта и вдруг подхватил ее на руки. Катя слабо вырывалась, упрашивая:
— Не надо… Не надо… Я закричу…
И голос у нее был мальчишеский, с хрипотцой, низкий.
Шофер унес ее в голубую беседку, под крышу на точеных столбиках, за низкую решетчатую балюстрадку с белыми перильцами…
Великая тишина стояла в заросших лесом горах. Только шумел поток. Шумел в камнях, по древесным корням, шумел студеный, прозрачный, вкусный…
На обратном пути в Бийск Чуланов заехал к ней. Знакомые майминцы указали дом, где она жила.
Среди глухой ночи ударили огни фар в Катины темные окна и повелительно, коротко рявкнул сигнал. Катя в ужасе вскочила. В темную комнату, в лицо ей бил, ослепляя, сильный луч, и казалось, на все село орал гудок. Путаясь в платье, в чулках, она кое-как оделась, страшась, чтобы не проснулась тетка, не услышали соседи.
Он увез ее за село на берег речки.
И во второй раз подкатили среди ночи его два огромных воза, обтянутых брезентом, и опять огни фар хлестанули в Катины окна. Она покорно выскочила, попала в луч света и вдруг показалась Чуланову такой беспомощной, запуганной, что ему и касаться-то ее не захотелось. Вроде бы устыдился или пожалел ее.
— Ладно, это я так… Иди спи, — пробормотал он, влез в кабину и, загромождая своими возами-кораблями весь узенький, кривой переулок, уехал, поливая светом хибары и огороды…
Больше он с ней не встречался. А потом стороной узнал, что она переехала к матери в Шебалино. И опять работала в чайной. Но Чуланов в эту чайную старался не заглядывать…
Вот как все это было.
3На этот раз вечер застал в Шебалине, решил здесь заночевать — укатали сивку крутые горки. На тракте стоит несколько бревенчатых гостиниц для шоферов. Есть такая и в Шебалине.
Густая, темная ночь. Из-за черных гор изредка выплескивается смутное, бледное пламя — зарево от невидимых молний. С гор, с реки накатывается прохлада, чистейший воздух, немолчный шум воды.
Распив несколько бутылок вина, шоферы на длинной скамейке ведут мирные беседы перед сном. И каких только историй не услышишь на Чуйском тракте! Сейчас вспоминали о гибели своих товарищей.
Запьяневший Гошка Ремнев мягким тенором грустно, негромко поет:
Есть по Чуйскому тракту машины,
Много есть по нему шоферов.
Был там самый отчаянный шофер,
Звали Колька его Снегирев.
Чуланов еще мальчишкой слышал эту песню и на Алтае, и в Сибири.
Отчаянный Колька Снегирев познакомился с шофером Раей. Она водила машину «форд», а он — AMO.
Тенор душевно рассказывает-поет:
Полюбил крепко Раечку Коля
И всегда, где бы он ни бывал,
Средь просторов Курайского поля
«Форд» зеленый глазами искал.
И вот однажды мчался он среди утесов над обрывом, и вдруг из-за поворота вылетел «Форд». А за рулем сидела Рая. И глянул на нее горячо Колька Снегирев! Только на миг забыл он о коварном тракте, а его AMO уже ринулась с обрыва, и «говорливые чуйские волны заглушили испуганный крик».
Не очень-то стройно звенит гитара, и мотив-то уж не ахти какой, и слова-то корявые, шоферские, с тракта, а вот, поди-ка ты, щекочут сердце. И хочется песню слушать, и петь ее хочется. Особенно здесь, на Чуйском тракте.
— Значит, не только по пьянке или по оплошке, но и из-за бабы погибал наш брат, — с усмешкой произносит пожилой шофер.
«Волчья жизнь! — уже в какой раз думает сегодня Чуланов. — Двадцать девять лет болтаюсь на земле. А зачем? Для чего я?» И вдруг захотелось ему, как этот Колька Снегирев, сгинуть от любви к какой-нибудь девчонке и чтобы о нем тоже песню сложили. «Как это любят? И что такое любовь? Это по одной половице, что ли, ходить? Дышать только на одну бабу? Слушаться ее? Пожалуй, нет! Это, наверное, когда хорошо на душе становится, весело, как у пацана в детстве».
В глубине большого двора смутно проступают машины с холмами грузов. На эти холмы ложатся звезды. Припахивает бензином, пропыленным брезентом. Мирно позвякивает гитара, то притухают, то разгораются огненные точки папирос. Сейчас во мраке, в глухих местах, выходят на тракт жители горных дебрей. Чуланов помнит встречи с медведями, маралами, дикими козами, волками. А кроме них бродит где-то во тьме по Чуйскому тракту и лихая душа Кольки Снегирева.
— А ведь этого самого Снегирева на свете-то и не было, — неожиданно говорит Ремнев.
— Как это? Ну-ну, ты это брось. — Чуланов хмурится. — Я и место знаю, где он погиб! Каждый шофер знает!
— А я тебе говорю, не было Кольки Снегирева! — горячится Ремнев. — Туфта все это! Выдумка! Ковалев был. Колька Ковалев. Шофер с тракта, это верно. И была Райка — кондуктор городского автобуса. Лет сорок назад жили они в Бийске. Ну и снюхались! А у них был приятель, электрик. Вот ему и взбрело в голову накатать о них песню. Приврал он, конечно, как это водится: Кольку Ковалева превратил в Кольку Снегирева, кондукторшу Райку — в лихую шофершу. А чтобы уж совсем забирало за душу, придумал он Кольке капут от любви!
— Не ври, трепло! — выходит из себя Чуланов.
— Вот ей-богу! Да Ковалев и сейчас живой. А эту песню пели на его свадьбе с кондукторшей.
— Это верно, — подтверждает пожилой шофер.
На могилу лихому шоферу,
Тот что страха нигде не знавал,
Положили зеленую штору
И согнутый от AMO штурвал!
Дурашливо голосит Ремнев. Все вокруг смеются. И так обидно становится Чуланову за песню, что он почти кричит Ремневу: