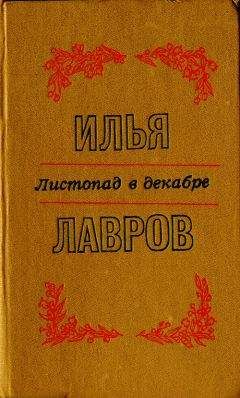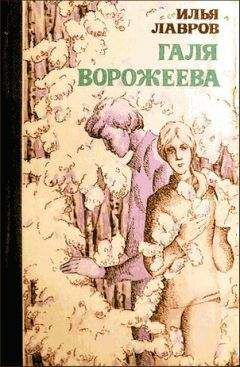Ревет мотор, гравий летит из-под колес, обстреливает днище. С натугой, но все вверх и вверх. Вот пошла машина легче, пошла быстрее, тракт ныряет в кедровый лес, навстречу выскакивает уютный домик с вывеской «Ремонтер».
Остановился. Клацает дверца.
Макушка перевала. Тишина. Кедры, усеянные шишками. Напротив хребты тоже в густых кедрачах. Там медвежье и беличье царство.
И только он хочет снова крикнуть цыганочке: «Эх ты, вознес бы я тебя!» — как перед ним возникает пухлая мордашка с клюквенными усиками, и внутри будто опять сильно и мягко переваливается с боку на бок теплая, кудлатая хорошая собака. И он уже другое говорит цыганочке: «А на кой ты мне сдалась!»
Он грузно ложится в траву, закуривает.
При дороге валяются полузасосанные сырой землей, обглоданные временем до костяного блеска железно-крепкие кедровые стволы. Остатки сучьев торчат, как ветвистые оленьи рога. У некоторых растущих кедров основания почему-то раздулись шарами, а толстые корни, как щупальца, раскинулись по земле, точно кедры стоят на осьминогах.
Вдали облака на снежных вершинах Теректинского кряжа. Внизу видна Урсульская котловина.
Что же это такое? В душе будто какая-то гордость. Будто он чем-то гордится, будто жизнь его стала важной, нужной для кого-то… Собака ворохнулась… Чуланов радостно смеется.
Воздух на перевале — чудо. Как чудо и вода. И снова в горной, лесной тишине только шум несущихся потоков. Синее небо. Сияние солнца. Закинутые в их мир зеленые хребты. Густой, как ягодное сусло, запах разопревшего разнотравья. Заплывшие смолой, дымчатые шишки кедра. Они прилипают к ладоням… Хорошо!
Чуланов гонит машину с перевала в Урсульскую долину. Вниз! Змеиные извивы тракта, петли, головокружительные повороты, подъемы, спуски. Вниз! А душа рвется вверх, вверх!
— От Инюшки до Ядрушки тридцать три вилюшки! — кричит Чуланов в окошко шоферскую присказку, кричит всему Алтаю.
Ущельем вдоль речки Туекты выскакивает на берег Урсула. Молочно-голубая Катунь остается воевать с камнями и утесами где-то в дальних ущельях.
На Алтае каждая река имеет свои цвет. Задиристый Урсул темный от ясно видимых на дне камней. Ледяной и стремительный, он цокает ими, ворочает их, пробиваясь туда, за хребты, к яростной Катуни.
Тракт вьется под каменными стенами, под нависшими карнизами, опоясывает пузатые скалы в меховой одежде из лишайников.
Вот же оно — место гибели Кольки Снегирева! Машина устремляется вниз, влетает в щель между двумя скалами. Здесь и повстречался Снегирев с красавицей Райкой и загремел вниз, в серую, в белых клоках пены Чую… Стоп! В песне говорится о Чуе, а здесь ревет Урсул. Чуя еще далеко, за перевалом Чике-таман… Неужели не было никакого Кольки Снегирева? И лихой Райки? И немыслимой любви? Да врете вы, зануды! Был Колька! Должен быть! Иначе что же получается…
6На обратном пути в Бийск Чуланов заехал к Кате. Не заходя в избу, начал сгружать мешки с картошкой. А на душе было совсем плохо. Как она теперь встретит его? Как с ней говорить?
Растерянный, смущенный, а от этого еще более неуклюжий и угрюмый, он ворочает кули. Когда, сгибаясь, тащит к крыльцу последний, выходит Катя. Он грохает мешок ей под ноги и совсем неожиданно для себя говорит фальшиво-весело:
— Здорово!
Он видит испуганное мальчишеское лицо, сжавшуюся фигурку, затравленные глаза, вздрагивающий широкий рот. «Девчонка! И подержаться-то не за что», — думает он. В памяти мелькают хмельные, толстомясые вдовушки, с которыми он коротал вечера, но сейчас рядом с Катей они кажутся ему противными, бесстыжими.
— Ну, чего ты, как пыльным мешком из-за угла ударенная, — смущенно бубнит он. — Картошку вот привез. Куда ссыпать?
— Не надо мне подачек, — тихо отвечает Катя.
— Ну-ну, ладно тебе, — ворчит Чуланов. — Есть будете… варить, жарить…
Он чувствует, что говорит совсем не то, а что и как говорить — один аллах ведает.
— Как тут пацан?
Катя молчит, чужая, ненавидящая. Чуланову становится от этого не по себе, но ничего не попишешь — заслужил. Он даже пугается: а вдруг она возненавидела его на всю жизнь?
— Ну, ладно… Взгляну я. — И он тяжело идет в избу.
И опять возы его заслонили окошки, затемнили комнату. Стены пестрят вырезанными из журналов кинокрасавицами, танцующими балеринами, разными пейзажами. На столе тарелки с недоеденной кашей и киселем, а на полу всякие кубики, оловянные солдатики, плюшевые мишки, пластмассовые зайцы и лисицы. Все это Темка повыбрасывал из своей кровати.
Больная старуха лежит под ветхим ватным одеялом, охает. Катерина, должно быть, не пошла на работу. С кем оставишь ребенка? «Туговато ей», — думает Чуланов, выкладывая на стол кульки с сахаром и конфетами для малыша.
Он ласкает веселого ребенка, собирает ему с пола игрушки, слушает, как причитает старуха, привыкшая жаловаться, страдать, молиться, быть смиренной и покорной. По-прежнему жалкой кажется и Катерина. Увидев ее усталые глаза, он смущенно говорит:
— Чего ты такая? Не съем! Ты держи себя гордо!
— Чего уж тут… До гордости ли нам? — плаксиво поет старуха. — Мы люди маленькие. Нам бы только перебиться как.
— «Маленькие»… Надо уметь за себя постоять, — огрызается он.
У ног загремела пластмассовая рыжая лиса: Темка энергично принялся за свою работу!
— Видно, бог велел страдать!
Чуланов начинает злиться. Ему кажется, что, если бы Катя в свое время была тверже, он бы не очутился в таком гадком положении, как сейчас.
— Бог! Сам-то он вон на какую высоту взгромоздился. Хорош милосердный! Бьете поклоны смиренно, а что человек — царь природы, забыли?
— Это ты, что ли, царь природы? — зло спрашивает Катя. В спину ей ударяется безногий заяц.
Чуланов растерянно царапает в затылке.
— Не обо мне речь. Я тоже — недоделанный. Недоучился я… Отец и мать пили… Совсем спились…
— Постой, а ты кто? Почему ты у нас? — оживляется старуха, озаренная внезапной догадкой.
— Кто, кто… Не догадалась, что ли? — ворчит Чуланов. В него летит кубик, потом зеленый солдатик. Чуланов ловит его.
— Господи, да как же это… Костя, ты что же это… И глаз не казал! Да ты, милый, присаживайся. — Голос ее звучит угодливо, и тут же она начинает плакаться, прибедняться, чтобы разжалобить его: — Да пожалей ты, Христа ради, дочку. Да ведь мы с парнишкой у нее на шее…
— Мама, перестань! — кричит Катя.
Стучат, прыгают по полу кубики: Темка веселится. Штаны у него сползли до коленок.
— А ты помолчи! Больно умная стала! — цыкает мать. — Ставь самовар, за бутылочкой сбегай. Садись, Костенька, будь гостем.
— Мама!
— Молчи!
Чуланову тоже неприятны старухины слова, унижающие Катю. Он идет к двери и уже с порога бросает:
— Дровишки я привезу… Не тратьтесь.
Прыгают по полу, катятся шарики. Глянув на мальчонку, он крякает и выходит, а вслед ему несется причитанье:
— Бог тебя не забудет, Костенька! Заезжай, милый!
— Мама, это же противно! — восклицает Катя, закрывая ладонями горящее лицо.
— Молчи ты, — слабым голосом кричит старуха. — Ничего ты не понимаешь! Ты держи себя ласковей да угодливей. А чего, так-то вот лучше одной, с приблудным ребенком?
— Не нужен мне никто, не нужен! — кричит Катя.
— Пожалей ты хоть мать, не рви ты мое сердце! — заголосила старуха, стараясь разжалобить и дочь…
Через несколько дней Чуланов снова мчался к монгольской границе…
На затравевшие горные склоны будто наброшен зеленый ковер. Сквозь него четко проступают правильными треугольниками и прямоугольниками промоины и выпуклости. Редкие деревья на крутых боках гор стоят друг над другом и кажутся случайными, нарочно натыканными, как объемные флажки на плоской карте. А кудрявые кусты походят на кудлатых зеленых баранов.
Каждый раз они забавляют Чуланова, но сегодня он смотрит на них, а видит затравленные, усталые глаза Кати.
«Невелика хитрость принизить человека, — думает он. — А ты вот попробуй вознеси его… Попробуй-ка прибитую, приниженную распрямить! Хм, дурак… Возносить взялся… А сам-то кто ты? Хамло, скотина… Это тебя самого нужно прежде вознести до человека!» И от этой мысли ему становится муторно. Еще никогда он не взглядывал на себя со стороны. Он морщится и даже от досады плюнуть не может — во рту пересохло. И все кажется ему в его жизни безнадежным, непоправимым; в груди будто тяжелые камни ворочаются.
«А как жить? И что такое жизнь? И на черта я появился на белом свете, если все равно впереди — гроб?» — задает он себе вопросы, и не находит ответа, и мучается от собственной слепоты…
Чуланову захотелось увидеть Катерину на работе.
Чайная, с веселым крыльцом под зеленым навесом на белых столбиках, с синими перильцами, с скрипучими ступеньками, стоит на самом солнцепеке. Она, казалось, потрескалась от жары. Возле нее несколько машин, значит, пиво есть.