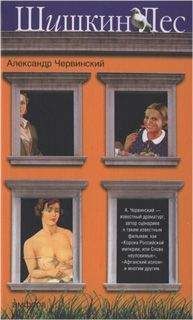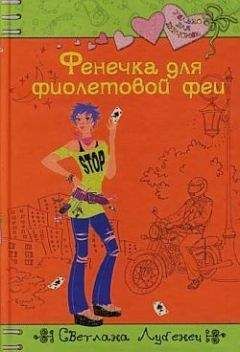— Гениально, блин! — радуется и трет сердце Эрик. — А, старичок? — и подает Максу лист бумаги. — Надо подписать вот здесь и здесь. Это доверенность на пользование твоим счетом.
Макс подписывает не читая.
Эрик был очень увлекающимся человеком. Вскоре он умер от инфаркта, но к этому времени икру Максу уже начал привозить Степа. В год Чернобыля Степа и Даша приехали к Максу уже во второй раз.
За окном крошечной квартирки Макса в Лондоне кирпичная стена. Уродливый пластмассовый стол. Дешевая мебель. Папа, грустно оглядывая убогое жилище блудного сына, распаковывает чемоданы.
Макс и мама сидят перед телевизором. Кадры хроники Чернобыльской катастрофы. Пожарные, умирающие в больнице. Дети и старики, слишком поздно эвакуированные из зоны. Взволнованный голос комментатора.
— У вас это не показывают? — говорит Макс.
— Нет, — мама вытирает глаза.
— Вот, мы привезли икру, — говорит Степа. — Вообще разрешают везти одну б-б-баночку и одну бутылку водки на человека. Но мы идем через д-д-де-путатский зал, и я пронес десять банок. Ты можешь п-п-помочь мне их продать?
— Папа, я сейчас не в состоянии разговаривать про икру, — смотрит на экран телевизора Макс.
— Но завтра ты будешь в состоянии п-п-поводить нас по магазинам?
— Как ты можешь сейчас думать о магазинах?
— Приходится думать, деточка. У нас же в магазинах пусто. Ты мне должен показать недорогие места. Но сначала надо продать икру, чтоб понять, сколько у нас денег.
— Папа! — вскрикивает Макс. — Ты хоть понимаешь, что произошла катастрофа мирового масштаба?
— Это все сильно п-п-преувеличено. Я звонил Михаилу Сергеевичу, и он меня успокоил.
— Ты уже дружишь с Горбачевым? — усмехается Макс.
— Было бы преувеличением назвать это дружбой, ты знаешь, я не так легко схожусь с людьми, но вот меня на съезде с ним п-п-познакомили, и как-то сразу сложилась какая-то д-д-душевная близость.
— Но у тебя и с Брежневым была душевная близость! — орет Макс. — И с Хрущевым! И со Сталиным! Ты считаешь, это нормально?
— Ненормально, деточка, жить как ты, — спокойно возражает папа. — В этой конуре вместо Шишкина Леса.
— Зато я здесь свободен! — кричит Макс.
— Свободен ставить спектакли в заштатных театриках вместо лучших театров Москвы. Б-б-болван.
— В Англии лучшие в мире театры!
— Почему же ты торгуешь икрой?
— Потому что ты мне ее привозишь!
— А как бы ты иначе жил?
— Мне платят за мои постановки!
— Тебе платят гроши.
— Гроши? Ха-ха! А вот посмотри, какие гроши! И в пылу спора Макс достает из ящика стола и показывает Степе листки бумаг с банковским отчетом. Степа смотрит и задумчиво жует губами.
— Деточка, откуда у тебя эти м-м-миллионы?
— Папа, я не деточка! И я ставлю спектакли в Лондоне, Берлине и Париже! И я очень хорошо зарабатываю! И я прошу больше денежную тему не поднимать! И икру не привозить!
Так мой брат Макс в первый и последний раз в жизни проболтался о существовании секретного банковского счета. Папа сразу понял, что деньги Максу не принадлежат, и разговор продолжать не стал. Но запомнил. Папа никогда ничего не забывает.
Чернобыльская катастрофа была пятнадцать лет назад. Время быстро бежит, сейчас уже девяносто восьмой год. Тогда Макс Петрову помог, а теперь Петров помогает нам, поэтому Сорокин ночью в поле протягивает Маше стаканчик горячего кофе. А Маша бьет его по руке, и кофе проливается.
— Какая мерзость! — ужасается Маша. — Нас все время подслушивали?
— Да. Я потом все объясню, — говорит Сорокин. — Но Петьку уже нашли. Его нашли у Левко, но вам надо еще здесь подождать. Кто-то от Левко должен приехать за деньгами. Его задержат здесь с поличным, а потом вы вернете деньги Петрову и получите свое имущество назад. Ну вот, собственно, я уже все и объяснил.
— Какая мерзость! Какая мерзость! — повторяет Маша и оборачивается к Степе. — И ты знал, что они нас все время подслушивают?!
— Нет. К-к-к-клянусь, не знал, что слушают, не знал, — озадаченно бормочет мой папа и спрашивает у Сорокина: — Он что, и сейчас нас слышит?
Сорокин молча показывает на Машин мобильник. Маша швыряет мобильник на землю и топчет его ногами.
— Понимаешь, деточка, я немного тогда присочинил, — говорит Сорокину Степа. — Я боялся, что мы столько денег не достанем...
— Я уже это понял, — усмехается Сорокин.
— Я п-п-подумал, у кого еще может быть столько денег, — оправдывается Степа. — И интерес к искусству. Что, теперь у меня б-б-будут неприятности?
— Какая мерзость! Какая мерзость! — повторяет Маша.
Жорик уже стоит в темноте у проходной «Мосфильма». Тычет в кнопки мобильника:
— Ну, что ты не выходишь? Я тебе говорю, чего ты просила, я достал. Не помнишь, что просила? Ну, про кино у нас базар был. Про кино!
Игнатова лежит щекой на трубке:
— Спать, Жорик. Не звони мне больше. Завтра. Сейчас спать.
Молодой режиссер Асатиани все еще сидит за монтажным столом. Такой же одержимый, как я. Может быть, ему удастся прилично закончить мой фильм.
— Я этого Жорика убью, — говорит Асатиани. И выдергивает из штепселя телефонный провод. Только бы вспомнить, о чем я думал. О чем-то важном. О самом важном. И пока время остановилось, надо успеть додумать. Ага, вспомнил. Я думал об Игнатовой. Последнее время я брал ее с собой в аэроклуб.
Проплывают под крылом самолета железнодорожная станция, дачи, окруженные соснами, лес, поле.
Игнатова загорает на траве. Жорик сидит рядом, водит соломинкой по ее ноге.
— Я тоже сидел. Как твой дед, — говорит он.
— Но не за стихи.
— Не. Шмеля взял на бану. И на юрцы.
— Чего ты говоришь? — дергает ногой Игнатова. — Я по фене не понимаю. Переведи.
Жорику очень хочется вызвать у нее к себе ну хоть какой-то интерес. А как? Вот и говорит на воровском жаргоне.
— Кошелек стырил на вокзале, — переводит Жорик, — и попал на нары.
— Юрцы — это нары?
— Ну. Пойдешь со мной в бар?
— Не пойду. Ты небось у старушки какой-нибудь кошелек-то стырил?
— Не. У этого козла.
— У какого козла?
— У Каткова. А он на суде сказал, что бумажник он сам потерял. И меня отпустили. И к себе взял. На работу взял. Чмур быковатый.
— У тебя богатый словарный запас. Это ты там, на юрцах, столько красивых слов выучил?
— Ну. У меня там друг был, от него наблатыкался. Он тоже, как ты, с Камчатки. Сдавал, как вы там морскую капусту хаваете.
Опять соломинка ползет по ее загорелой ноге, опять нога дергается.
— Не надо, — просит Игнатова. — Жарко. Так ты кем здесь у Каткова работаешь?
Вместо ответа Жорик приподнимает майку и показывает заткнутый за пояс пистолет. Но Игнатова — дитя нового времени, пистолет на нее большого впечатления не производит.
— Понятно. А я думала, что ты здесь, типа, дворник.
— Ну ты, в натуре. Это, когда Валера здесь, я убираю. А так — вон они, эти двое, за бутылку целый день пашут.
В отдалении два бомжа, мужчина и женщина, трудолюбиво косят траву.
— Ну ты бизнесмен, в натуре, — сонно смотрит на них Игнатова.
— Они за бутылек не то что косить — человека убьют, — говорит Жорик. — Баба инженер. Типа, ученая. А мужик в банке работал. Миллионы может натырить. Знает как. Но слабо. Алкаш.
— А тебе, в натуре, не слабо.
— Не-а, — крутит на пальце револьвер Жорик.
— Ну ты крутой, — Игнатова садится и натягивает платье.
Это она увидела, что мой самолет пошел на посадку.
— Ну давай в бар сходим, — Жорик прячет пистолет.
— Спасибо, Жорик, — отряхивает с себя траву Игнатова. — Только я на днях домой возвращаюсь, на Камчатку. Съемки кончаются.
— А про что ваше кино?
— Кино это, выражаясь твоим языком, полная херня. Потому что Алексей Николкин уже старый. А есть молодой режиссер Асатиани. И он придумал совсем не херню и со мной в главной роли. Только на съемки денег нету.
— А сколько надо? — спрашивает Жорик.
— Много.
— Ну сколько? Лимон?
— Много лимонов.
— Сколько?
— Девять, — наугад говорит Игнатова.
— И будет прямо как американское?
— Лучше. Только никто ему таких денег не даст. И я уеду домой на Камчатку играть в своем театре зайчиков и снегурочек, а Асатиани останется тут снимать рекламу стирального порошка.
— Девять лимонов я могу сделать, — говорит Жорик.
Самолет уже коснулся колесами земли.
— Что ты можешь сделать? — не поняла Игнатова.
— Бабки.
— Ты мне можешь дать на фильм девять миллионов? — Игнатова идет к самолету.
— Ноу проблем, — идет за ней Жорик.
— Ну ты крутой! — смеется Игнатова. — Ну ты, Жорик, просто прелесть, в натуре. Ты хороший.
Оборачивается, легко прикасается губами к губам Жорика и идет встречать меня, шоколадно-золотая юная богиня в лучах июльского солнца. Жорик трусит за ней.
— Я не тискаю, — говорит Жорик, — я знаю, как у этих лохов бабки достать. Сами принесут.