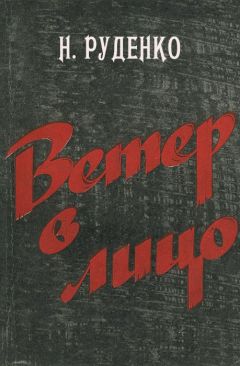— Сорок минут надо выиграть — и тогда наша взяла, — говорил Великанов. — А не подам ковша на сорок минут раньше — и второй опоздает... Да сильнее дуйте вы на него! — крикнул он рабочим, остужающим ковш.
— Иди сам подуй, — огрызнулся рабочий с мостика.
— А что же делать? — грустно спросила Лиза.
— Надо что-то делать, — ответил Великанов. — Если бы вот выровнять температуру.
— Какую температуру?
— Ту, что в ковше, и ту, что во мне...
— Не понимаю.
— Где тебе понять?.. Ну, какая у меня температура, как ты думаешь?
Василий снял фуражку, подставил ей белокурую голову, доставая Лизе только до подбородка. Лиза положила ладонь ему на лоб, улыбнулась.
— Нормальная.
— Эх, ты... Нормальная. Матери младенцам губами измеряют.
— Я тебе в матери не гожусь.
Капельки ртути под бровями Василия быстро забегали. Тряхнул белокурой шевелюрой, надел фуражку.
— Ну, пусть нормальная. Значит, тридцать шесть градусов. Если к этому еще приплюсовать градусов шестьдесят, то это как раз будет та температура, которая там, в ковше.
Лиза посмотрела на него с лукавой искоркой в глазах.
— А как же ты можешь приплюсовать?
— Приплюсовал бы. Знаю такую жидкость. Ее в аптеке не продают. Дома из свеклы делают. Коньяк три ботвы. Но вот слово Макару Сидоровичу дал.
— Вот ты о чем! — погрозила пальцем Лиза.
— Ну, что ж... Попробуем без того, где три ботвы.
И Великанов, схватив в руки ведро с глиной, полез по лестнице на ковш.
— Василий! — вырвалось у Лизы.
— Ты что, сдурел? — крикнул на него один из рабочих, направлявших в ковш струи сжатого воздуха.
— А ты знай одно — дуй. Не жалей. Лиза, принеси к ковшу еще ведро глины на всякий случай. Не буду я ждать, пока они охладят.
— Василий!..
Но Великанов поправил брезентовые рукавицы и исчез в ковше.
— Ненормальный, — ругались рабочие.
Прошло несколько минут. Лиза, принеся к ковшу ведро с глиной, стояла бледная, взволнованная. Она не знала, что ей делать. Может, пойти за врачом? Да вот он бежит трусцой с кислородной подушкой в руках.
— Это безобразие! Разве может человек выдержать такую температуру? — восклицал худощавый старичок в белом халате. — Подавайте воздух прямо на него! На него!..
Вот из ковша послышался голос Великанова:
— Глины! Спустите на веревке.
Лиза посмотрела вокруг. Ни веревки, ни каната не было и в помине. Напарник Василия готовил к ремонту второй ковш. Пока она будет искать какую-то проволоку, Василий не выдержит... Схватила тяжелое ведро с глиной и быстро, сколько было сил, полезла по лестнице...
— Куда вы? — испуганно крикнул врач. — Остановитесь!
Но Лиза уже занесла ногу над стенкой ковша, и через мгновение ее золотистая головка исчезла...
— Кого это несет? — крикнул Великанов. — Лиза! Назад!..
А она спускалась все ниже, ниже, пока не подала ему ведро с глиной. У ковша собрались рабочие. Бледный, мрачный, стоял начальник цеха Приходько.
— Как вы могли позволить? — отчитывал он врача.
— Разве они спрашивают разрешения?..
Над стенкой ковша появилась головка Лизы. Но что это?.. Глаза у нее закрыты, рука безвольно свисает... Вот поднимается голова Великанова. Лиза лежит у него на плечах. Василий осторожно ступает по лестнице, одной рукой поддерживая Лизу, а во второй сжимая дужки двух ведер. Видно, что это стоит ему немалых усилий. Но откуда взялось столько силы у этого приземистого парня? Шатаясь, становится на землю, роняет ведра, прижимается спиной к ковшу. Лицо мокрое от пота.
— Дайте ей кислород, — обращается он к врачу.
Какой-то высокий рабочий подходит к нему:
— Вам трудно. Я ее подержу...
— Отойди! — скрипит зубами Великанов.
Врач подносит кислородную подушку к Лизиному лицу, из черной роговой трубки дает ей кислород. Покрытое густыми каплями пота лицо девушки дрогнуло, глаза открылись. Посмотрела сначала на Великанова, тихо спросила:
— Хватило глины?
— Хватило, Лиза.
Василию не хотелось признаваться, что глины ему нужно было не ведро, а совсем немного и что он уже справился до того, как увидел Лизу в ковше... Сказать об этом — значит оскорбить ее, лишить смысла ее самоотверженный поступок.
— Пусти!
Соскочила на землю, качнулась, склонилась на плечо.
— Товарищ начальник! — обратился Великанов к Приходько. — Ковш готов. Можно подавать.
— Спасибо, товарищ Великанов, — пожал ему руку взволнованный Приходько. — Спасибо, Лиза... Но так не годится.
— Думаю, что больше не придется, — ответил Василий, глядя не на Приходько, а на Лизу.
Новый блестящий «ЗИМ» мчался широким асфальтом на юг от Киева. Желтела стерня. Мимо пробегали низкие дома под почерневшими крышами, высокие колодезные журавли, новые кирпичные здания, выросшие за последние годы среди старых украинских домов. В селе еще было много контрастов, сразу бросающихся в глаза. Странно, конечно, видеть на почерневшей, покрытой зеленоватыми пятнами мха дедовской крыше высокую телевизионную антенну. Но Дорнин, и Горовой, полулежащий среди подушек на заднем сиденье, хорошо представляли внутренний вид этих домов. Он нисколько не подходил к мебели, которая в них стояла, ни к характерам и общему развитию людей, которые в них жили. На окнах, на полках — книги по агрономии, произведения Шевченко, Пушкина, советских писателей. На столике телевизор. А в углу у печки — старые прадедовские рогачи и кочерги, глиняные горшки и кувшины. Но беда не в рогачах и не в горшках. Пусть бы были и ухваты, и горшки, но вот пол, а тем более крыша никому не по вкусу.
— Старые, даже черные, — показал Горовой на несколько домиков, стоявших у самого шоссе.
Доронин искоса поглядывал на своего друга. Изменился он, очень изменился. Похудел, побледнел, осунулся, постарел. Как будто не был тем широкоплечим Гордеем, который недавно легко подхватывал тучного Доронина и крутил его вокруг себя, как десятилетнего мальчонка. Что-то не в порядке с печенью. Хорошо, что не нашли ничего страшного. Откуда они берутся, все эти раки и разные там гипертонии?.. Не может быть, чтобы Горовой не оправился от болезни. Ведь у него было железное здоровье.
— Да, черные, — сказал Доронин. — Отжили свой век. Даже стыдно ехать мимо этих домиков в такой роскошной машине. А духовная культура выросла несравненно. Таким бы людям во дворцах жить, а не в этих домиках...
— Не представляю. Мне кажется, что раньше они не были такими черными, замшелыми.
Доронин прижал глаза, пристально посмотрел на Горового. Когда Гордей о чем-то начинает спорить, его лицо сразу меняется, делается незаметной даже болезненная бледность.
— А ты и не преувеличиваешь. Когда человек быстро растет, ему свойственны специфические болезни. Так называемые болезни роста. И у государства это есть. Раньше хлеб молотили цепями. А теперь кто цепями молотит?.. Солома же из-под комбайна не годится на крышу. Ею не покроешь дом. Это первое. Второе то, что некоторые партийные руководители решили вообще игнорировать соломенную кровлю. А в жизни пока что домов под соломой больше, чем под черепицей и под железом. И получается такое — поскольку я тебя, соломенная кровля, игнорирую, так как ты для меня не существуешь, то и думать о тебе не хочу. Можешь себе чернеть, покрываться мхом — мне до тебя никакого дела нет.
— Чистой воды идеализм. Мир, мол, вне моего воображения не существует, — криво улыбнулся Горовой.
Макар Сидорович обратил внимание, что черные волосы директора были сейчас больше припорошены проседью, чем раньше.
— С комплексным соревнованием очень интересно. Хотелось бы взглянуть. Хоть одним глазком.
— И не думай, — погрозил Доронин. — Пока окончательно не вылечишься, на завод не пустим.
— Не очень трясет, Гордей Карпович?.. Может, уменьшить скорость? — спросил шофер.
— Ничего, ничего. Давай газа. Скорость мне не вредит. Как раз наоборот.
— Эх, Макар Сидорович... Приду и я к вам со своим заявлением, — мечтательно сказал Саша.
— Что это за официальность? — удивленно улыбнулся Доронин.
— Да уж официально... На деревню хочу.
— Что? — строго спросил Макар Сидорович. — Лучший водитель и вдруг...
— Решили мы с Галиной. Я — тракторист, она закончила агротехникум.
— Не пущу! — рассердился Доронин. — Обидел кто-нибудь? Ну, рассказывай... Разве тебе у нас плохо?..
— Да нет. Не плохо, — смущаясь, ответил Саша.
— А в чем же дело?
— Ну, просто земля мне по душе...
— А завод, а коллектив? — сердился Доронин.
— Да что же завод?..
— Как это «что же завод»?
— Нет, я не против... Но понимаете... — еще больше смутился парень.
— А как думаешь ты, Гордей Карпович?.. Наш Саша... Привыкли мы к нему.
— Да-а, Саша. Может, тебя Голубенко чем-то обидел? — спросил Горовой.
— Эх, вы, — сердито сверкнул зрачками шофер. — Ничего не хотите понять. Будто постановление ЦК не для вас писано... А еще говорите — крыши черные...
Доронин посмотрел на Сашу так, будто увидел его впервые. Морщины вокруг воронки на лбу заплясали. Он захохотал.