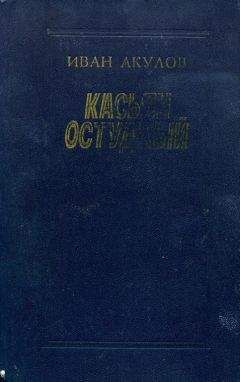— Это плохо, что Харитошки нету дома. Налетит, гляди, как коршун. Мужик сбросной.
— Суровая, видать, порода, — сказал Жигальников, выходя на теплое солнечное крыльцо.
С наклонного открылка падали талые капли и разбивались о пригретые крашеные приступки, которые мокро блестели и отражали солнце. Громкая и торопливо веселая капель, легкий текучий пар от солнечных ступенек, запах потеплевшей щелястой стены дома и мокрого навоза внезапно пробудили в душе Жигальникова чувство острого отвращения к тому, чем он вынужден заниматься, и он с неосознанной виной подумал о становитой Любаве, о ее грустных и упрямо затаенных глазах: «Гордая, должно быть. И сильная».
Едва успели открыть двери амбаров, с мышиным и застойно-пыльным холодом, как ко двору подъехал Харитон. Высокий и тонконогий жеребец, по кличке Чародей, от щеток до репицы был облит потом. Из-под хомута и с ремней шлеи на стегна падали шмотки розовой пены. Чародей не узнал своего двора, с распахнутыми воротами, чужими лошадьми, говорливой толпой вокруг, потянул у хозяина вожжи и стал выворачивать обратно на дорогу. Харитон вмиг понял происходящее и в отчаянии рвал удилами взнузданную горячую пасть жеребца.
— Вылазь, Мавра Саввишна, — крикнул акушерке, и та в плюшевой шубе, сутулая от шалей, дородно полезла из кошевки, со дна ее взяла свой узелочек со снадобьем.
— Тут, что ли?
— Иди наверх, Мавра Саввишна. Любава встретит. — Харитон враз отпустил вожжи, и жеребец рванулся от ворот со всех ног — отводы кошевки так и подсекли толпу. Двое или трое отлетели в снег. Мальчишки засвистали, заухали, обсыпали кошевку мокрыми снежками. Напуганный жеребец, и без того диковатый от жизни взаперти, понес по улице и возле пустых лабазов растоптал чью-то собачонку. Но Харитон валил кошевку набок, отвод глубоко пахал снег, и лошадиной вспышки хватило ненадолго. Берегом он возвратился на свой край села и подвернул к воротам Оглоблиных. Аркадий впустил его во двор, а зная все, ни о чем не спрашивал. Помогая выпрягать Чародея, заботился о своем:
— После обеда нагрянут ко мне. А я чуть было не угнал в Ирбит. Да ночью-то иду от вас, гляжу — шастают двое, и так меня подшибло, не поехал, будто знал. Ну если тронут!.. Только тронут.
— Пойдут шерстить скрозя — доберутся и до тебя. У нас-то все это не ко времени. Ах не ко времени. Пойду, Арканя, не испугали бы они Дуню. Ах не ко времени. И душа, Арканя, кипит огнем. Так бы и раскроил кому-нибудь череп.
Харитон, весь багровый и рассерженный, неспокойными глазами оглядел двор.
— Ты, Харитоша, за-ради Христа не ввязывайся — всю семью сгубишь. Я думаю, Советская власть все-таки одернет наших распорядителей. Все обладится. А хлеб что ж, черт с ним, и с хлебом. Нового насеем. Земли прорва. Сей, не ленись.
— Пойду, Арканя. Дуню жалко. Ах все не ко времени.
— Погоди-ка, и я пройдусь.
— Вот спасибо, Арканя. Я теперь и сам себя не знаю. Право, не сдержусь. Ах как не ко времени.
Харитон ушел в конюшню и скоро вернулся, устраивая что-то в правом кармане штанов и закрывая его легкой полой старого изношенного полушубка.
Вышли на дорогу, совсем почерневшую от навоза, в глубоких лошадиных проступях, залитых бурой водой. На обочинах под вытаявшими клоками сена бугрились шишкастые наледи. Под стенами домов, на припеке, земля уже просохла, и на ней грелись еще по-зимнему мохнатые недовылинявшие собаки. На резных наличниках, задирая хвосты, дрались и кричали воробьи. А воздух был холодно-влажный от мокрых и осевших снегов в полях, лесах, на реке, обступивших Устойное со всех сторон. Весна шла по дорогам и без дорог, и надо было по неписаным законам ждать ее, браться за встречное дело, в котором заложено извечное обновление, но люди были заняты другими заботами, и обрывалась мужицкая радость на какой-то непризнанной виновности и растерянности.
— Я думаю, что Советская власть сама вдарит по нашим управителям, — опять обнадежил Аркадий. — Это все их выдумка. Ихние перегибы.
— Приезжий Мошкин тут крутит нашими.
— Дядя сулился на масленицу и не приехал, — гляди, растолковал бы нам, что же это деется на белом-то свете.
— Отъездился твой дядюшка, Арканя. В больнице с сердцем Семен Григорьевич. Всю дорогу думал сказать тебе, а тут вышибло из ума.
— Как это? Ты что буровишь? А?
— Акушерка Мавра Саввишна сказала. Сам не сразу поверил. Да ведь они вот живут — из двора во двор.
— Да отчего же? Когда?
— В кабинете, говорит. Прямо на полу нашли, чуть жив. Скажи, даже и не знаешь, чьим горем печалиться. Не Дуня да не Любава — провались бы и дом. Право слово, не глядели бы мои глаза на все это.
Собравшиеся у ворот Кадушкиных издали увидели Харитона и Аркадия, скоро идущих по дороге, и в скорых шагах уловили что-то замысленное.
— Драться идут! — крикнула деревянным голосом Стешка Брандахлыст.
— Берегись, — пронеслось над толпой, и зеваки шарахнулись со двора, испугали коней. Всеобщая тревога достигла и тех, кто был в амбарах и насыпал зерно: там бросили железные совки, пудовки, мешки, повалили наружу.
— Что такое? — спохватился Жигальников, сидевший под солнышком на верхней сухой ступеньке крыльца. Вскочил на ноги: — Что это значит?
От амбара без видимой робости, но с тревогой в глазах подошел Умнов, весь в хлебной пыли, которая была хорошо видна на кожаной куртке, и от пыли потускнел хром форменной фуражки.
— Хозяйский сын, видимо, что-то задумал. Я говорил о нем.
— С Аркашкой они, — подсказал от ворот Савелко Бедулев.
— Ну, это неспроста, — подтвердил Умнов свою тревогу и подвинулся к крыльцу.
— Разнесут, — злорадно крикнула баба.
— У тебя, председатель, оружие при себе? — спросил тихонько Жигальников.
— Я не ношу, товарищ… Свое село, свои люди. Зачем?
— Ты — председатель. Ты день и ночь на боевом посту. «Своя деревня, свои люди». Вот они покажут тебе — свои люди.
Жигальников спустился с крылечка и по мосткам пошел к воротам, на ходу выговаривая Умнову:
— Я вот сегодня еще утром спорил с Мошкиным. А теперь вижу, напрасно спорил. Во многом прав он, этот Мошкин. Горяч, но прав. Идет жестокая классовая борьба, и середины нету: не мы их, так они нас. Видел, как он его ловко приласкал к столбу. А ведь убеленный сединой, благообразный старец. Сама доброта вроде. Вот и говори после: своя деревня. Деревня-то, может, и своя, да мы-то по кулацким сусекам за хлебушком ходим. Понял? Председатель?
Но Умнов, остро наблюдавший за подходящими Харитоном и Аркадием, плохо понимал Жигальникова, а облегченно вздохнул и пришел в себя только тогда, когда увидел, что в руках у них ничего не было.
«Сердце-то, видать, заячье, хоть и вырядился в боевую кожанку, — раздражаясь, подумал Жигальников об Умнове и уж совсем злобно переключился на себя: — Не надо было мне приезжать сюда. Ни мужика, ни деревни не знаю и потому не умею с точностью сказать, как обернется дело. Ведь это тоже не дело, что мы вломились в чужой двор…»
— Председатель, — вдруг обратился Жигальников к Умнову, — продолжайте работу, а то гляжу, вы готовы дать стрекача.
Аркадий остался на дороге, а Харитон пошел во двор, не глядя на чужие подводы, отворенные двери амбаров и людей, суетившихся у этих дверей.
— Стой, — окликнул его Жигальников и приказал: — Иди сюда. Кто ты такой?
— Это мне бы спросить, кто вы такие, да я с прошлого разу помню вас. — Харитон вытер о рогожу на мостках сапоги и стал подниматься на крыльцо, не желая ни видеть следователя, ни говорить с ним, будто боялся чего-то непредвиденного, что определенно помешает ему, Харитону, немедленно узнать о здоровье Дуни.
— Вернись! — закричал Жигальников. — Вернись, сказано.
Харитон остановился, а потом медленно пошел с крыльца, готовый всему покориться и заплакать или вырвать из саней оглоблю и окрестить ею всех до единого, что пришли незваными на его двор. Умнов, наблюдавший за Харитоном от ближних амбарных дверей, уловил в его фигуре что-то опасное и, скользнув к нему сзади, ловко заломил ему руки.
В этот миг — никто и не заметил — во двор влетела разгневанная Машка, позднее всех узнавшая сельские новости. Она в расстегнутой шубке и цветастом платке, сбившемся на плечи, подбежала к Умнову и со всего плеча хлестнула его по лицу.
— Отпусти, сказано. Что вы с ним делаете? Да как возьму вилы, так и проткну тебя скрозя, сапожное ты голенище. А вы-то что глядите: ведь договорились, не брать силой, — закричала она на Жигальникова, который совсем уж начал отступать за ворота.
У Якова Назарыча из разбитого носа текла кровь и черным поводком вилась по его кожанке. Он отпустил Харитона и, не думая, что тот может ударить его сзади, пошел к амбарной стене, зачерпнул ладошкой льдистого снега, прижал к носу. Харитон мертвенно побелел, с беспамятно выпученными глазами наверняка ударил бы Умнова по затылку, но Машка твердо заступила ему дорогу и слезливым криком остепенила его, стала подталкивать, как пьяного, по ступенькам в дом. И он послушался.